Летний отдых.
Сессию за второй семестр (это конец первого, самого тяжелого, курса) я без особых приключений сдал на «отлично». В кармане - повышенная на целую четверть стипендия, что вселяет приятность неописуемую. Уезжаю на летний отдых, слегка ошалевший от наук. Родные хата, мать и сестра встречают радушно: всем троим нужна моя забота и ласка. День отсыпаюсь, два дня - ремонтирую то, что успело развалиться по хозяйству, на третий день - начинаю скучать. Передают: заводу нужен сварщик. Я еще ничего не умею, но о своем неумении еще ничего не знаю. Иду в заводскую контору, - меня сразу принимают без всяких формальностей: моя трудовая книжка выдана именно заводом.
Моя смена - ночная, с 22 часов. Прихожу немного раньше, чтобы получить задание. Мое рабочее место под навесом рядом с мастерской, которую совсем недавно мы с Мишей Беспятко едва не сожгли. Ремонтировать надо раздолбанные в усмерть вагонетки для перевозки угля в котельной. Специально для меня запускается одноцилиндровый дизель с калильной свечой, который вращает сварочный генератор. Моторист наскоро инструктирует меня, как надо глушить это чудо техники и уходит: его рабочий день окончился. Темнеет; в мастерской - ни души. Завод на ремонте; основное здание, живое и шумное во время сахароварения, сейчас темное и молчаливое. Начинаю готовиться к работе и сразу же обнаруживаю свои недостатки: у меня нет третьей руки! В одной руке у меня держатель с электродом, левой я держу щиток с темным стеклом. А чем прижать деталь, которую надо приварить? Ногой - не достать, живот -отсутствует. Легко можно прижать пружинящую деталь левой рукой, но тогда глаза не смогут видеть, что я делаю: дуга слепит намертво даже при ярком солнце, не то, что ночью, когда зрачки расширены. Попросить помощи - не у кого: я кажется один на всем заводе. Не сделать -нельзя: это мой первый рабочий день, хотя вокруг уже глубокая черная ночь за пределами яркой лампы, освещающей мое рабочее место. Вблизи громко тарахтит мой допотопный дизель, требуя действий.
Если бы я тогда знал хотя бы в теории, что существуют маски, освобождающие вторую руку! После нескольких попыток обойтись без третьей руки, я изобретаю – не маску, а самоубийственную технологию. Отбрасываю щиток, освобождаю руку, которой прижимаю пружинящий лист, закрываю глаза и начинаю сварку вслепую! Когда открываю глаза, то вижу наплавленные сопли металла совсем не в том месте, куда целился. Попасть удается с четвертой попытки, схватив несколько «зайцев», когда дуга полыхает прямо в глаза. После таких «зайчиков» начинаешь что-то видеть только через несколько минут.
Однако дело сделано: непокорная деталь прихвачена и перестала пружинить. Подбиваю кромки молотком, и начинаю нормальную сварку со щитком. Меня ожидает новая напасть: на яркий свет дуги слетаются тучи невиданных ранее толстенных мотылей с короткими крыльями, - явных сельхозвредителей. Такое толстое туловище можно отрастить только на полезных растениях. Часть вредителей сгорает рядом с горячим швом, другая - успевает залезть мне под щиток, в рот и глаза. Отплевываюсь, отмахиваюсь. Возможно, эти мотыли атакуют меня не только как источник света, но и запаха. У завода нет жидкого стекла и меловую кашу, в которую окунают электроды, замешивают на патоке. При горении такая обмазка дает дым с сильным запахом горелого сахара, который явно нравится оголтелым вредителям. Я до корней волос пропитан этим запахом, поэтому меня, варилу, они тоже воспринимают как нечто съедобное.
Худо-бедно - одна поломанная вагонетка заварена. Я начинаю прихватывать следующую, опять без щитка…
К 5 часам утра моя технология дает уже не сбой, а «полный звездец»: из красивых глаз непрерывно льются горькие слезы, и я ничего не вижу. Если бы глаза могли смотреть, то увидели бы, что «морда моего лица» обожжена до цвета кирпича и распухла. Кое-как, на ощупь, глушу свою тарахтелку, и бреду домой в свете уже восходящего светила. Мама, увидев меня, в ужасе начинает причитания. Твердыми словами прекращаю панику и начинаю руководить спасательными работами. Заваривается все наличие чая; смоченный заваркой платок укладывается на глаза и лицо. Засыпая, отдаю твердое распоряжение: разбудить меня ровно через один час. Я уже знаю, что для восстановления статуса кво длительность сна не имеет особого значения: главное - количество циклов сон - умывание - сон. Через час мама легонько трогает меня, надеясь, что я не проснусь. Однако просыпаюсь. Глаза открыть невозможно: под веками полно песка. Открываю их обеими руками, умываюсь ледяной водой, специально доставленной с колодца. Когда появляется зрение, то в зеркале вижу распухшую красную физиономию с красными же глазами сытого вурдалака. Опять накладываю чайные компрессы и ложусь.
До вечера я провел около пяти циклов лечения и стал опять способен на новые трудовые подвиги. На работу пошел пораньше. Бригадир ремонтников рассыпался в извинениях, что оставил меня без подсобника. Оказывается, на таких работах сварщику положен был подсобник! Подозреваю, что хитрый бригадир просто испытывал «некоторых, дюже грамотных» на прочность. Теперь ко мне приставлен Степа. Это невзрачный мужичок неопределенного возраста с одним глазом и лицом, похожим на печеное яблоко. Голову Степы венчает большая теплая кепка из толстого сукна, которую позже назовут грузинской. Словоохотливый Степа клянется в любви к сварочному делу и всем сварщикам вообще. Новый помощник дышит густым перегаром, но исправно прижимает железки, переносит кабель и кантует тяжелые вагонетки, чтобы мне было удобно работать…
Недели на две с верным Степой мы перешли в главный корпус завода, где приваривали великое множество крючков из проволоки для удержания изоляции на вертикальных стенках огромных выпарок. «Нахлынули воспоминанья»: работаем рядом с помостом, где три года назад я баловался заводским гудком. Сварка - на высоте, не очень ответственная, но проблема в том, что мне ни разу до этого не приходилось варить в вертикальном положении. Даже заикнуться об этом нельзя, приходится учиться на ходу. К концу первого дня кое-что начало получаться: вместо безобразных металлических соплей - аккуратный блестящий шов. Вопреки канонам, о которых я понятия не имел, варю сверху вниз: к счастью, меловые на патоке электроды позволяют это хулиганство. (Сейчас некоторые продвинутые фирмы выпускают специальные электроды для сварки сверху вниз: наверное, для обеспечения работой своих невежд и неумех). Сам Вася Стопа одобряет мои результаты, тем более - в них поверило руководство.
Окрыленный таким доверием, я пытаюсь совершить еще один трудовой подвиг, как две капли воды похожий на безнадежную глупость. Из завода к жомовой яме на глубине два метра в земле проходила толстенная труба, по которой качали жом. Труба была проложена без всякого понятия: о тепловом удлинении забыли. Из-за этого во время производства труба периодически разрывала стык, сваренный на живую нитку, и жом фонтанировал прямо посреди дороги. Сейчас этот дефект решили исправить раз и навсегда, раз есть такой хороший сварщик. Трудолюбивые подсобники, чтобы не очень напрягаться, отрыли узенький шурф. Обнажился стык, уже несколько раз оскорбленный безобразной сваркой: вместо сварного шва на стыке висела толстая бахрома металлических соплей. Сейчас я знаю, как исправлять такой дефект: надо вырезать участок трубы, вваривать тепловой компенсатор и т. д. Это работа для бригады монтажников, сварщика, резчика и … экскаватора. О сроках я не говорю: многое зависит от организации и снабжения. Тогда же, наполненный до краев оптимизмом невежества и окрыленный доверием начальства, я решил сделать все один и за считанные часы.
В глубокой дыре я мог только стоять: присесть, тем более - работать, не позволяли стенки. Потребовать, чтобы сделали нормальную яму, мне не позволил комплекс – симбиоз скромности и невежества. Чтобы никого не беспокоить, я придумал нечто цирковое: на ноги надел веревочную петлю и велел опустить меня в шурф вниз головой. Верный Степа с помощником регулировали по команде мое погружение. Под трубой отрыто совсем мало места, щиток не помещается. Тогда я вытащил из него темное стекло и так защитил глаза, пожертвовав опять «мордой лица». Работал я несколько часов, поверх старых соплей наплавляя новые. Весь дым от горелой патоки, прежде чем выбраться из шурфа, проходил через меня: это был мой воздух для дыхания. Этим запахом я пропитался на всю оставшуюся жизнь. Заваренный стык не мог не потечь при испытании, - сейчас мне это ясно, даже не глядя на сварку. Без удаления дефектного металла, насыщенного всякой бякой, такой стык не мог бы заварить даже суперсварщик в самом удобном положении…
Очень тяжелый взгляд из технического будущего. Я занимаюсь сваркой более полувека, участвовал в подготовке тысяч сварщиков, не уставая повторять им простую, как репа, истину. Качество сварки на 80% зависит от правильной подготовки. Высшая доблесть сварщика - не сваривать то, что плохо подготовлено, закрывая своей грудью амбразуру чужого разгильдяйства: пулемет оттуда будет стрелять еще губительнее. Неопытным говорят: «Если ты хороший сварщик, - заваришь!». Так вот: хороший сварщик тот, кто откажется заваривать такую «порнуху». Он потребует, или сделает сам, сначала правильную подготовку перед сваркой. Сварщик ведь всегда «последний»: он ставит свое личное клеймо, благословляя тем чужой брак.
Мне приходилось очень жестко «причесывать» начальников, которые в спешке и/или по невежеству принуждали молодых сварщиков к такой халтуре. Кажется, при этих разносах у меня из глаз и ушей валил дым с сильным запахом горелой патоки...
Конечно, все эти истины касаются только ручной сварки, где сварщик остается один на один с расплавленным металлом. Если же речь идет о более сложных технологиях сварки, то здесь нужен широкий кругозор инженера, чтобы решить весь комплекс задач по качеству и трудоемкости изготовления всей конструкции. Очень часто приходится начинать изменения с самой конструкции или сооружения. Нормально, когда один инженер экономит или заменяет труд, по меньшей мере, десяти рабочих. Надеюсь, мне удастся рассказать об этом.
Работал я на заводе до самого отъезда в Киев. Мой заработок, значительно обрезанный неудачной «цирковой» сваркой, оставался приличным: на его часть я купил часы, о которых давно мечтал. Это было не просто украшение на мозолистой руке: это был наинужнейший прибор при нашем быстром коловращении жизни. До войны наручные часы были редкостью и даже экзотикой, у ответственных людей преобладали карманные брегеты. После войны появилась наручная «Победа» - весьма точный и чрезвычайно надежный механизм. Стоили эти часы около 400 рублей: цена была с копейками и одна на весь СССР. Это были весьма приличные деньги, но вскоре эти часы были раскуплены и оставались только в магазинах глухих деревень, где доходы были ниже, а время определялось по солнцу. В Деребчине эти часы я и купил. На первых порах я просто наслаждался, глядя на белый циферблат и черные стрелки, и поминутно определяя свое положение во времени. Теперь уже можно регулировать темп бега в дальнюю аудиторию, заранее собрать книги перед концом занятий, не опоздать в кино или на лекцию, следующую за «просачкованной», - словом резко повысить качество кипящей жизни… Моими первыми в жизни часами я владел меньше года, о чем дальше. Замена часов была связана с событиями - военными, драматическими и познавательными.
Взгляд из счастливого будущего. Наш сын учится в школе. Английской! Он должен сызмалу научиться музыке, языку, плаванию и еще тысяче вещей, которые не умеет делать его отец. Время для него уплотняется. В обеденный перерыв из Охты я несусь в Автово, попирая ПДД. Там сын выбегает из школы, вскакивает в машину: через считанные минуты занятия в бассейне у Театральной площади. Чтобы сбоев не было, покупаем сыну часы - совершенно необходимый и теперь - не очень дорогой прибор времени. Немедленно получаем выговор от учительницы, ровесницы бабушки сына: для нее часы на руке мальчишки - предмет непозволительной, прямо таки - безумной - роскоши. А времена уже другие. Сознание масс по-прежнему еле плетется за несущимся вскачь бытием, -ну, прямое подтверждение теории марксизма - ленинизма…
Возвращение в Эдем, который ремонтируют.
Немыслимо отдохнувшие и окрепшие на летних каникулах, вдохновленные (см. передовую «Правды»: там ясно написано, чем мы вдохновлены), с неугасимой жаждой знаний в пытливых глазах, слетаются будущие инженеры под ставшую родной крышу общежития. (Примерно так писала бы наша институтская многотиражка перед началом учебного года).
Все правильно: отдохнули, окрепли, глаза горят от чего-то, вдохновлены чем-то, «стремляемся» куда-то - тоже: что есть, то есть. Неувязочка только с родной крышей. То есть: дом, который символически называется «крышей» (криминального значения слова, по невежеству и к счастью, мы тогда не знали), - стоит. Крыша на нем (в буквальном значении), вроде тоже стоит, но немного не в себе. Через очень короткое время мы тоже оказываемся «немного не в себе».
Где-то наверху решили на нашем трехэтажном общежитии достроить еще один или два этажа. Все путем: много горемык маются по частным углам, да и набор на 1-й курс увеличивается. Технология придумана блестящая: наращивать стены, одновременно поднимая кровлю со стропилами. Дьявол хихикал, как всегда, - сидя в ворохе деталей. То ли забыли, то ли не «забили» в смету нужные при такой технологии леса. Возможно, - не додумали технологию, возможно, - строители были разгильдяями, возможно, - подкачали снабженцы. Из опыта знаю, что чаще всего, все неувязки и недочеты успешно и одновременно размещаются на одном объекте, помогая друг другу. Нашим взорам предстала такая картина: над третьим этажом нашей хаты возвышалась уже половина четвертого с приподнятой крышей. В радости никто не обратил внимания, что краев возвысившейся крыши не существует: на ширину около метра по всему периметру кровля была обломана и просвечивала ребрами стропил.
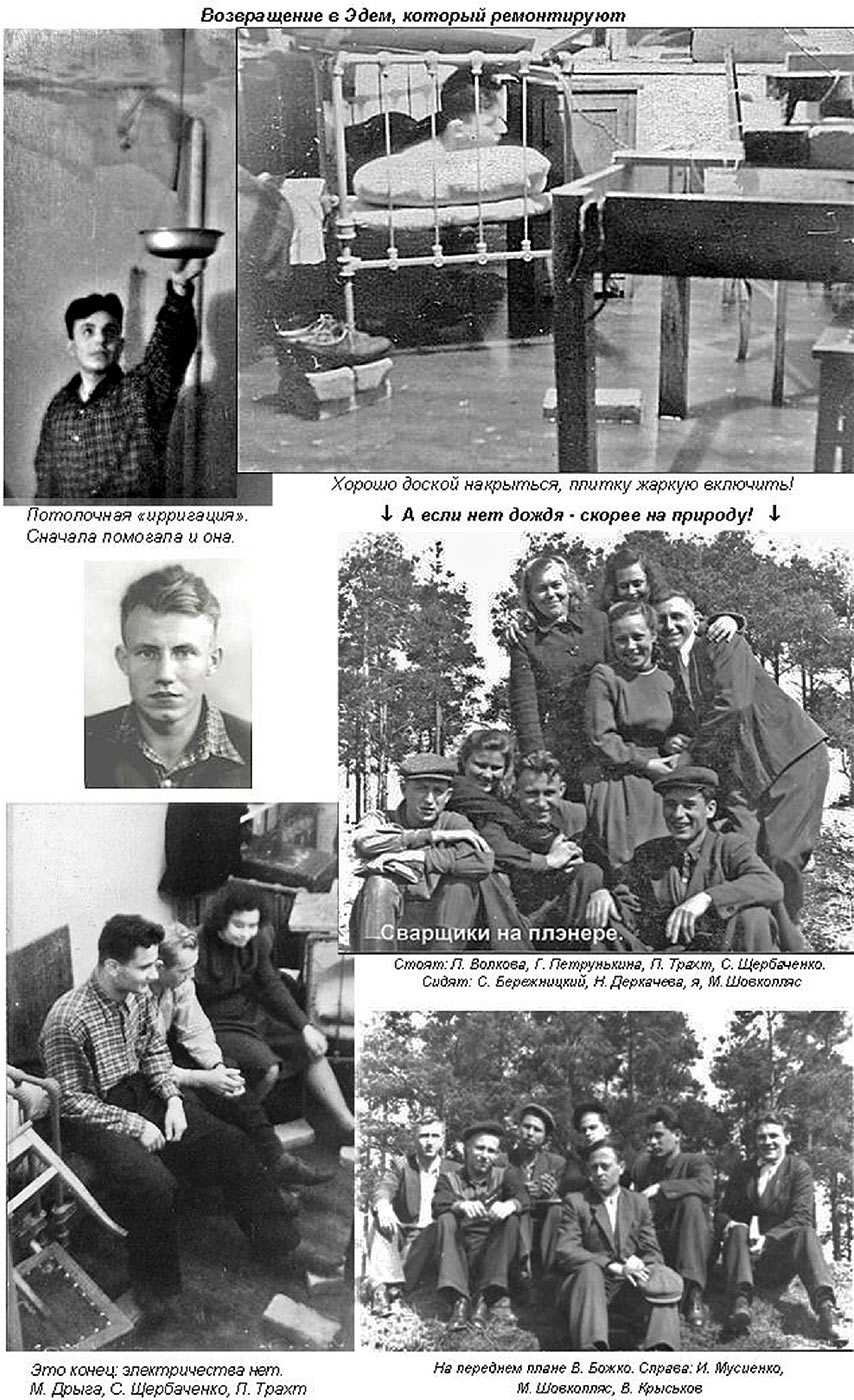
Недели две-три Всевышний дал на «устранение отмеченных недостатков». Но никто не чесался: была «славная осень», а «здоровый ядреный воздух» бодрил «усталые силы», но - не спящее сознание. Тогда Им была начата карательная акция под названием «Дождь», плавно перешедшая в «Проливной Дождь». Осадки, собранные всей крышей, через ее обломанные края, устремились на бывший чердак. Они (осадки) хотели бы устремиться вниз по стенам, но на их пути предусмотрительно была воздвигнута кирпичная кладка высотой в половину этажа по всему периметру. Осадкам ничего не оставалось, как начать просачиваться вниз через потолки комнат.
Наша комната - угловая, поэтому у нас полилось сразу с двух сторон. Спать в обычной постели под дождем - не очень удобно. Предпринимаем меры: на потолке закрепляем наклонные веревочки, которые в одном месте собраны в жгут. Пока капель немного - система работает: пару ночей мы спим с небывалым комфортом. Ведро под жгутом дежурный выносит несколько раз за ночь. Увы, счастье всегда недолговечно: приток усиливается, и наша система захлебывается, - вода льет уже по всей площади потолка. Собирать воду в тару - мартышкин труд. Уровень воды превышает порог, и она начинает переливаться в коридор. То же самое в других комнатах. Коридор наполняется водой. Вода уже просочилась на второй этаж, а кое-где - и на первый. На меловой стенгазете у входа появляется красочное объявление с картинками: «На третьем этаже состоится матч по водному полУ». Народ веселится, но начинает оглядываться вокруг в поисках сухих берлог. Наша комната принимает решение: стоять насмерть. Разбираем мебель, и из щитов изготовляем «зонтики» над собственными фейсами: капли на остальные части тела, закрытые одеялами, обычно менее чувствуются. Притаскиваем несколько десятков кирпичей и на полу выкладываем пунктирную дорогу. Из кирпичей же делаем помост для нашего главного друга - электроплитки. К нашей резино-матерчатой электропроводке на белых роликах не притронуться: бьет током, но мы же не гимназисты какие нибудь. Кстати: в комнатах студенческих общежитий официально запрещены розетки, соответственно - включение чего-либо энергопотребляющего. Это безумное требование все студенты умеют обходить. Для неумех и гуманитариев на киевской толкучке целый отдел честных людей торгует «жуликами» - розетками над осветительной лампой. У нас все сделано с умом: незаметная врезка в сеть оканчивается тайной розеткой под кроватью. Наши улики не висят нагло над столом, и наш верный друг электроплитка дарит нам тепло и сухие носки, питаясь от скрытого источника. Мы почти научились жить в водяной стихии.
Начинает ручьями литься с потолка под нами на втором этаже, вскоре заливает и «сухой» первый. По коридорам можно пройти только по доскам или кирпичам: босиком ходить уже холодновато и не «ком иль фо». И тут судьба наносит неотразимый удар: где-то коротит проводка и свет вырубается навсегда. Без электричества мы просто увядаем, хотя воды полно.
Нас переселяют в третье общежитие, где все уже уплотнено до предела. Наша тройка - Коля Леин, Серега Бережницкий и я, - сохраняет свое морально-политическое единство в одной комнате. Комнату «организовали» из бывшей подсобки, у нее номер 3а. Теперь у нас в комнате шесть человек, двое парней с других факультетов, оба старше нас. На вакантное место Коля уговаривает всех взять Севу Троицкого, «чтоб нам всегда было весело». Сева - юморист, он непревзойденно блестяще на наших вечерах читает и изображает «Зайца во хмелю», причем на русском и украинском. Украинский перевод нас особенно потешает: он выполнен рафинированным языком киевских «митців», то есть «работников мистецтва -искусства», на котором народ никогда не разговаривает. Например фраза «какой-то дряни нализался», в переводе звучит: «якоїсь гиді насмоктався». Сева сейчас, кажется, маститый профессор. Не мне кидать камешки в его огород, но тогда он достал всех своей занудной мелочностью.
Напротив, в комнате номер 3, живут девушки с химфака, мы становимся «шефами». Шефы и они, и мы одновременно; «подшефные» - определяются по обстоятельствам. Все праздники мы проводим вместе, теперь у нас нет забот в отношении закуски и сервировки, девушкам тоже проще стало жить во многих случаях. Наши девушки учатся на химфаке, поэтому все чертежи и расчеты для них делаем мы. Взаимные посещения и совместный треп у нас стают обычной нормой; все знают все обо всех, дружеские подначки шутки и смех в наших комнатах не затихают.
Почти всем нашим подшефным девушкам присваиваем «партийные» клички. Гибкая и сильная Тамара, пассия Вовочки Нестеришина, получает имя Пантера. Люся с красномедными волосами, веснушками, узкими зелеными глазами и профилем Нефертити у нас называется Египтянка, возле нее увивается Серега Бережницкий. Есть две Лиды, одна из которых Полторалида. Есть Римма-маленькая, ставшая позже женой нашего Вадима Смолина. Есть Кошка, положившая глаз на меня, и даже Билли Бонс, - скромная тихая женщина с полуприкрытым глазом, муж которой Володя учится на горном факультете. Супруги нас рассматривают, как шаловливых детей, но в застольях принимают активное участие. Женское общество на нас действует положительно: у нас стало чище, бреемся и смеемся - чаще. Девушки тоже, кажется, подтянулись и расцвели. Наша «дружба домами» длилась до самого окончания института.

Рядом в коридоре хозяйственная комната. Там стоят столы с керогазами и плитками, здесь же несколько общих умывальников. Девушки вечно что-то стирают, варят, - в общем, - кухня и ванная обычной коммунальной квартиры. Туда мы, обычно, выходим и покурить. Там мы потешаемся над мудростью, навеки нанесенной на одну тарелку: «Залог успеха общественного питания – в самодеятельности рабочих масс» При этом мы сразу представляем «общественное питание» и «рабочие массы» в лицах Вовочки Нестеришина и одного албанца. Их самодеятельность забуксовала после первого обеда: они не могли решить, кто первый должен мыть посуду... Вскоре наше остроумие по поводу тарелки-плаката привяло: слова оказались ленинскими, и за чрезмерный юмор можно было влипнуть…
Во время одного из перекуров, я обратил внимание на некую деву, которая очень внимательно приглядывалась ко мне. Сначала я отнес это внимание за счет своей неописуемой красоты, которая поразила деву прямо в сердце. Но вскоре меня вызвали на студсовет общежития, и иллюзии развеялись. Дева обвиняла меня в хищении пары капроновых чулок, которые она постирала и повесила сушить в хозкомнате незадолго до моего перекура. Больше там никого не было, утверждала истица. Я не знал, как оправдываться: все факты были налицо, кроме незаметного появления некоего татя, умыкнувшего драгоценные чулки. В бой бросился Коля Леин. Он прожег судей из студсовета пламенной речью: «Майк может украсть автомобиль, но чулки, даже капроновые - никогда!». Спасибо, дружище за доверие; увы, я не оправдал его. Я очень нуждался и нуждаюсь сейчас в автомобилях, но так и не смог украсть ни одного…
Ленинград - первая весточка.
Воспоминание о прошлом, не совсем уместное. Привел в эпиграфе якобы стихи якобы выдающегося якобы поэта Павла Григорьевича Тычины (ПГТ), и нахлынули воспоминания. ПГТ - шут украинской советской литературы, надутый, как детский воздушный шарик, официальным возведением в ранг «выдающегося». Его стихи, в которых наглый примитив мирно уживался с прямой глупостью, выдавались за подлинно народные шедевры. Его ура-стихи и биографию заучивали наизусть поколения бедных школьников. Количество анекдотов и подражаний Тычине можно вполне сравнить с аналогичными показателями Василия Ивановича.
До войны в Деребчинской школе работала родная племянница ПГТ, которая дружила с моей мамой. Оля была очень красивой женщиной и болезненно переживала «успехи» своего дяди, полностью разделяя народное мнение о нем. Перед самой войной она с семьей переехала в город Золотоноша, расположенный недалеко от Черкасс, но по другую сторону Днепра. Во время бегства 1941 года наш путь лежал через этот зеленый городок, и мама не могла не посетить свою подругу. Она без мужа, ушедшего воевать, не хотела или не могла уехать. Кроме того, все тогда надеялись, что немцев дальше Днепра не пустят…
В 1946 году мне попал в руки литературный журнал «Вітчизна» со стихотворением ПГТ. Я хотел прочитать его маме и Тамиле, сопровождая комментариями и «разбором полетов». К моему удивлению, стихи были вполне приличными. В них речь шла о некоей Оле, которая не выдержала фашистских издевательств, и восстала, взяв в руки оружие. Она была казнена немцами вместе с двумя детьми. Дальше ПГТ, обращаясь к героине стиха, говорит: «Оля, родная, ты дочь моего брата, в детстве ты сидела на моих коленях, я вижу тебя также с твоими детками», называет их по именам. Мама, слушавшая сначала меня не очень внимательно, попросила прочитать еще раз, затем – еще раз, и заплакала. Бесспорно, речь шла о гибели ее подруги вместе с детьми…
В моем же эпиграфе использованы подлинные довоенные «стихи» ПГТ, о Кирове и Ленинграде, которые в школе надо было выучить наизусть. Я их и выучил, поэтому смог воспроизвести. В то время Ленинград мне представлялся вроде утопающей в садах Арыставки, только все плетни в нем были увиты диким виноградом, широко распространенном в Деребчине для украшения хат. Как растет настоящий виноград, я тогда не знал… Собрания сочинений ПГТ в моей библиотеке почему-то нет.
Вскоре после «чулочного дела» меня опять пригласили в ту же комнату. Я даже загрустил, заявив ребятам, дескать, один раз попадешься, - всю жизнь покоя не будет. Коля и Серега приняли боевую стойку и взяли с меня обещание сразу звать на помощь.
В комнате мне навстречу поднялся молодой симпатичный мужчина и со словами: «Здравствуйте, Николай Трофимович!» - протянул руку. Я чуть не упал, удивленный своей столь широкой известностью в криминальных кругах. Из дальнейших разговоров выяснилось, что речь идет не об очередных хищениях капронов. Георгий Львович Петров, аспирант Ленинградского политехнического института, почему-то хорошо знающий мое семейное положение, место жительства, сахарно-слесарное прошлое и другие мелочи, приглашал меня, персонально, на учебу в Ленинградский политехнический институт, где открывался новый сварочный факультет. Высокую стипендию, прекрасное общежитие, последующую работу и проживание в Великом Городе, - ГЛ гарантировал. Говорил он легко, убедительно. Ленинград он знал и любил, при нем было много фотографий города, института, общежитий.
Я был ошарашен персональным обращением. Ехать в холода и сырость Северной столицы мне не очень хотелось, но и в Киеве меня держала только близость к маме и Тамиле, езды к которым было всего несколько часов. Я очень мудро обещал ГЛ подумать, и дать ответ в течение недели. Расстались мы как родные.
Ребята встретили меня с лицами в форме вопросительного знака. Обсудили все, решили выяснить поразительную осведомленность ГЛ, и вообще, - откуда ноги растут. Помогла Нина Ивановна, секретарь деканата. В Ленинградском политехническом институте было по одной группе сварщиков на каждом курсе металлургического факультета. По киевскому опыту они поняли, что изучения только металловедения для сварщиков «маловато будеть», им нужна электротехника, электроника, механика и другие, достаточно чуждые металлургам предметы; короче, - нужен специальный факультет. Чтобы не начинать жизнь только с одним первым курсом, по СССР направили гонцов, с задачей - отобрать лучших для учебы на втором – пятом курсах. В Киев приехал Г. Л. Петров. Он забрал в отделе кадров личные дела студентов и внимательно их изучил. Обладая колоссальной памятью, ГЛ запоминал предварительно отобранных кандидатов по «фейсу» и данным, что меня так и поразило при первой встрече.
Между Киевом и Ленинградом я колебался, как осел товарища Буриданова между равноудаленными стогами сена. Толкнуть меня к какому нибудь стогу, и тем спасти от голодной смерти, должен был Цезарий Шабан. Дело в том, что физику на проходящей уже сессии ЦВ завалил. Он, правда, получил «тройку», но это было даже несколько хуже завала: затрудняло пересдачу и грозило отлучением от стипендии. ЦВ пошел на пересдачу, но «крутой» дважды доктор тех. (и - этих) наук Файнерман опять поставил ему тройку. ЦВ был в отчаянии. Мы с ним договорились так: он делает еще одну попытку. Если будет опять тройка, - мы собираемся, и вдвоем переходим в Ленинград: там стипендию дают и с тройками. На пару дней и ночей ЦВ засел за конспекты и учебники. С дрожью пошел на вторую пересдачу. Ура! Файнерман побежден, мы остаемся оба в Киеве! Оказалось, что я не очень хотел ехать в Ленинград, и зря думал, что мне все равно.
Кстати, о Георгии Львовиче Петрове, ныне, увы, покойном. Он стал доктором наук, главой ленинградской школы сварщиков, заменив Окерблома. Меня он узнал не сразу, а только после напоминания о киевской встрече. Мы довольно часто с ним встречались в ЛПИ и на всяких конференциях, где я представлял уже «силовую» структуру. «Надо было тогда вам перейти в Питер», - сетовал ГЛ. Его многочисленные ученики очень любили своего учителя и сохраняют самую добрую память о нем.
В Ленинграде я все же оказался: видно на роду это было написано. Наш сын и внуки - уже коренные… «санктъ-петербуржцы».
О, голубка моя!
После зимней сессии я не поехал домой: делать там было нечего, мама и Тамила были в порядке, да и денег было не густо. Ребята перед отъездом скинули мне все свои запасы круп, макарон, варенья, сахара и даже немного сала. Я собирался заняться восхитительным ничего-не-деланием и чтением хороших книг. Погода на улице была скверная. Выходил я раз в день «на уголок», - так называлось ближайшее скопление продуктовых магазинов на углу Брест-Литовского шоссе, чтобы купить хлеба и вареной чесночной колбасы, являющейся все же основным продуктом бедных студентов. На метры ливерной колбасы (по народным приметам - из отходов обувной промышленности, но - вполне съедобную) мы переходили, когда совсем уже было туго.
Из старого поломанного приемника удалось восстановить только проигрыватель, и я во время чтения крутил тихонько всякие арии, которых набралось в моей коллекции изрядно. Никуда не надо было спешить, и делать что-либо по суровой необходимости. В пустом общежитии мне было хорошо: я просто наслаждался спокойной растительной жизнью. После обеда из колбасы и чая я собирался прилечь с книгой. Легкий послеобеденный сон тоже не был большим грехом при таком эпикурейском образе жизни…
Вдруг (вечно появляется это «вдруг»!) в дверь постучали. На мое приглашение в дверь просунулась натуральная китайская голова. С Китаем тогда у нас была «дружба навек», «идут, идут вперед народы», и, вообще «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Десятка два китайских студентов, учившихся в КПИ, являли нам образец организованности: всегда ходили, если не строем, то плотной кучей, учились от зари до зари, обедали тоже строем и единообразно дешевыми блюдами. Из нетвердых русских слов я сумел понять, что китайские друзья на моем «радиОлыке» (так мы называли в быту этот ущербный аппарат), хотят прослушать новую пластинку. Во время разговора в комнату просочилась еще пара китайцев. Я радушно развел руки: «Конечно, ребята! О чем разговор! Ради Бога!». Включив свой радиолык, я скромно уселся с книгой. Китайцы с трепетом достали свою пластинку и поставили ее на диск проигрывателя. Это была кубинская «Голубка» в исполнении Клавдии Шульженко.
Молча, как молитву, прослушали ее от первых тактов до шипения иголки на концевой ловушке. Убедившись, что звуки стали слишком однообразными, ведущий китаец, назовем его Мао, переставил иголку в начало пластинки, затем - еще раз. Слушание проходило при полном внимании и неподвижности всех членов «группировки Мао». Я люблю только раннюю Шульженко, когда она еще пела песни нормальным голосом без драматических придыханий. Исполнение «Голубки», кажется мне, находится где-то посредине этих периодов, поэтому слушать ее можно один раз без особых эмоций. Прослушав четыре – пять раз подряд, я был счастлив вполне, и готов был послушать другие новинки китайских товарищей.
Однако подошла еще группа сподвижников Мао, и специально для них бедная «Голубка» искала парус над волною еще раз пять, - от начала до нежного поглаживания голубкиных достоинств в образе перьев. Надо ли говорить, что все прослушивания проходили при полном молчании и неподвижности иностранных товарищей? Они, кстати, и одеты были одинаково: в темно-синие костюмы полувоенного кроя, что дополнительно подчеркивало их сплоченность. Игла, наконец, вместо звуков начала издавать живительное шипение.
Я вздохнул облегченно. Десятикратное прослушивание «Голубки» я записал, как мой личный, очень весомый, вклад в укрепление советско-китайской дружбы.
Я приготовил радушную улыбку и снисходительные слова, которые должен произнести в ответ на извинения китайских товарищей за причиненное мне беспокойство. Товарищи, однако, вместо подъема и столь желанного прощания, дружно открыли портфели: у всех в руках оказались блокноты и авторучки. Мне показалось, что у меня, мученика и благодетеля, передовой отряд китайского пролетариата будет брать интервью на тему дружбы народов. Но, вместо меня, их взоры все так же были устремлены на черный диск на несчастном радиолыке.
Все тот же Мао поставил иголку в начало пластинки. После прослушивания первых звуков и первой фразы песни, иголка была снята, а китайские братья, уже громко переговариваясь, начали дружно строчить в блокнотах. Они записывали текст «Голубки»! Некоторые слова с первого раза им были непонятны. Значение слов прояснялось только после четвертого – пятого прослушивания. Когда фраза уже была всеми записана, по тону китайских переговоров и жестов, я понял, что в их сплоченных рядах имеются разночтения. Чтобы немедленно прийти к требуемому единодушию (т. е. - консенсусу), понадобилось проиграть эту фразу еще несколько раз. Наконец, желанное единодушие, после горячих дебатов на китайском языке, - достигнуто. Отряд принимается записывать следующую фразу. Попасть иглой на начало второй фразы очень сложно. Мао, не мудрствуя, ставит иглу в начало пластинки, и уже записанная фраза идет как бы в нагрузку…
Когда китайские друзья записали, обсудили, согласовали и отредактировали последнюю фразу «Голубки», я уже был в состоянии, которое боксеры обозначают как технический нокаут. На дворе стояла глубокая ночь. Для международной солидарности теперь я мог только сделать слабое помахивание кистью вслед уходящим друзьям, которое бы означало: «Ехай, ехай!» (именно так говорит одна наша московская родственница).
Я - слабый белый человек. О возможностях другой расы я судил по собственным. Китайские же друзья были свежи, как огурчики. Они не кончили работу, а организованно ее продолжали. Они, для лучшего усвоения изученного материала, начали петь!
Пели они по фрагментам, - так же как записывали, но хором. Тут руководителем стает уже другой товарищ, назовем его Дэн. В нестройном хоре фальшивых голосов, он отыскивал владельца лишь одного, давал ему ЦУ и ЕБЦУ (ценные и еще более ценные указания), после чего хор начинал все сначала…
Как и когда окончилась международная спевка, как уходили китайские товарищи, - помню не очень отчетливо: в состоянии глубокой прострации, я еще пару суток ощипывал перья голубки, украшая ими парус над морской волною. До сих пор «Голубка» для меня - не песня, а символ азиатской прилежности и упорства. Слава великому китайскому народу! Да здравствует Клавдия Шульженко и Голубка - отец и мать советско-китайской дружбы! Ура, товарищи!
Аэроклуб.
Школа паровозных машинистов, где учился Толя Размысловский, находилась в Святошино. Иногда я бывал у него в общежитии. Недалеко находился аэродром аэроклуба: над ним часто взлетали и садились за деревьями самолеты. Иногда в небе внезапно вспыхивали белые сегменты парашютов, они совсем были не похожи на разрывы зенитных снарядов над Черкассами в 1941-м. Там кипела неведомая жизнь, о которой я мечтал всего пару лет назад. Я пришел в аэроклуб на улице Саксаганского. Дежурный выдал мне направление на медицинскую комиссию при аэроклубе. На следующий день я быстренько прошел всех специалистов: все дружно написали «годен к летной работе». Окрыленный я, пока еще бескрылый, с медицинской справкой, метрикой и заявлением о приеме на учебу летчиком-спортсменом, двинулся по начальству дальше. На первом же собеседовании меня седой зам почему-то спросил: «А чем ты, сынок, сейчас занимаешься?». «Студент Политехнического», - ответствовал я безыскусно. Седой начальник загрустил и сказал: «Не можем мы тебя взять, сынок. Вот если тебя отчислят из института, - милости прошу!». С гордостью я заявил, что надежд на отчисление у меня, ударника технической учебы, никаких нет. «А чем же мешает мое студенческое состояние?», - допытываюсь я у седого начальника. «Я ведь буду все понимать лучше, чем просто годные и необученные». «Так мы всех летчиков-спортсменов после аэроклуба направляем в летные училища, а со студентами вузов, что будем делать?», - ответил мне он вопросом на вопрос.
Моя голубая мечта вблизи разглядеть «даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье» - рушилась. Увы, я уже не мог расстаться с институтом. «Земли творенье - землей живу я», - расстроился я вслух. Седой посмотрел на меня внимательно. «А ты иди в спортсмены-парашютисты, тоже ведь небо!». Я сразу же согласился, не размышляя ни секунды. «Ну, это занятие - не для слабонервных», - умерил мой пыл старший товарищ. «Вот мы сейчас набираем группу одноразников. Ребята прыгают один раз, чтобы получить значок. Вот и запишись в эту группу. Прыгнешь. Понравится, выдержишь, - приходи, будем оформлять в группу спортсменов – парашютистов». Я был согласен и на это. Машина завертелась.
В общежитии я объявил ребятам, что поступаю в ряды доблестных асов свободного падения. Немедленно на меня была вывалена куча анекдотов из жизни парашютистов. Самый реальный был еврейский. «Хаим, откуда такой плохой запах?». «Ой, Сара, мне приснилось, что я прыгнул с парашютом!». «Боже, я бы умерла!». «Но я же мужчина!». Второй анекдот - о сомневающихся и неверующих. «После прыжка дергай это кольцо, - парашют раскроется». «А если не раскроется?». «Дергай вот это, - раскроется запасной». «А если и этот не раскроется?». «Тогда тебя внизу будет ждать машина!». Выпрыгнул. Дернул кольцо - ничего. Дернул второе - тоже ничего. Летит и думает: «Вот будет хохма, если внизу еще и машины не окажется!».
Поскольку парашютная тема, оказывается, была такой популярной, я предложил ребятам лично проверить оба варианта анекдотов. Откликнулся только Юра Попов, остальные бодро рассосались, выдав на гора еще по парочке былей из воздушной жизни.
Через несколько дней мы с Юркой уже сидели в аэроклубе на занятиях по наземной подготовке. Занятия по два – три часа, два раза в неделю, всего на месяц с небольшим. История парашюта, теория прыжка и управления куполом, затем тренировки на земле.
Мы будем прыгать с самолета, который сначала назывался У-2, затем По-2 - в честь конструктора Поликарпова. В годы войны он носил гордое имя «ночного бомбардировщика» с нашей стороны и «рус фанера» - с немецкой. Летали на нем, в основном девушки, о чем даже снято несколько фильмов. Достоинства самолета - простота, неприхотливость, способность взлетать с любого «отсутствия аэродрома», даже с пахотного поля. Возможно, поэтому в народе этот самолет всегда назывался «кукурузником». Ошибочно этим гордым именем неграмотные стали величать самолет Ан-2, который с истинным «кукурузником» роднит только биплановые очертания, то есть одна видимость. В фундаментальном справочнике «Авиация от А до Z», из которого я взял фото моего первого самолета, сообщается, что количество выпущенных самолетов По-2, возможно, самое большое в мире. Я люблю этот самолетик. Он впервые поднял меня в небо выше деребчинской черешни (подъемы в горах нельзя считать воздушными); 10 раз я вылезал на его хлипкое крылышко, вглядываясь в нарисованную внизу карту земли, затем сигал в воздушную бездну. Но это было потом. Сейчас была наземная подготовка: теория и практика.
Мы твердо узнали, что парашют изобрел в 1911 году русский (БСЭ 1973 года называет его «советский») изобретатель Глеб Евгеньевич Котельников (1872 - 1944). Научное обоснование идеи парашюта принадлежит титану Возрождения Леонардо да Винчи еще в 1495 году. Первый удачный прыжок с высокой башни зафиксирован в 1617 году, с воздушного шара - в 1797 году. При испытаниях собственных конструкций парашютов погибло много смелых людей, их имена и даты гибели нам не известны. Вряд ли они изучали труды великого да Винчи. Очевидно, интуитивно понятная идея парашюта овладевала умом многих. Парашют стал насущной необходимостью с развитием авиации. Огромная заслуга Котельникова в том, что он изобрел первый спасательный ранцевый парашют, который пилот мог надеть на спину перед полетом, и использовать как спасательное средство при аварии летательного аппарата. Уже в Первую мировую войну парашют Котельникова спас жизнь многим летчикам. Во Вторую мировую, на которую приходится и Великая Отечественная, парашют становится непременным атрибутом военного летчика. Чтобы не забыть парашют, сиденье пилота тех времен представляло низкую железную коробку, и только парашют, закрепленный на пилоте, и помещенный в коробку, превращал ее в сиденье. (При современных скоростях покинуть самолет старым способом невозможно, поэтому летчик вместе с креслом помещен в отстреливаемую при аварии капсулу, снабженную парашютом).
Постепенно прыжки с парашютом стают одним из видов авиационного спорта, чему способствует большая сеть аэроклубов. С 1949 года начали проводиться чемпионаты СССР по парашютному спорту, а с 1951 - чемпионаты мира. Наши мастера гремели во всем мире, и мы, неофиты, грелись в лучах их славы. Сейчас я понимаю, как дорого стоит этот спорт. Ведь надо было содержать аэроклубы и самолеты, для каждого желторотого «одноразника» поднимать в воздух самолет. Богатое и щедрое было у нас государство, ничего не жалело для молодых. Какой Гусинский теперь захочет оплачивать такие убыточные виды спорта?
В зале для занятий стояла часть самолета У-2. Основной вид наших тренировок: надеть парашюты, сесть в кабину, вылезти из кабины на левое нижнее крыло, сделать соскок с крыла, сесть в подвесную систему, отстегнуть и снять лямки парашюта. При кажущейся простоте этих действий, которые надо было довести до состояния автоматических, были в них некие «суффиксы». Парашютов было два: основной - за плечами, запасной - на груди, что значительно затрудняло обзор и связывало руки. Влезть надо было в тесную кабину, расположенную впереди кабины пилота. Рядом с пилотом надо было закрепить карабин толстой веревки, которая должна выдернуть тросик со стопорами из ранца парашюта «одноразника». Спортсмен-парашютист раскрывал парашют самостоятельно на нужной высоте, в зависимости от задачи прыжка. При этом более тонкая веревочка выдергивает чеку из автомата ПАС-400. Этот умный автомат в виде небольшой коробочки, установленной на грудной лямке, автоматически раскроет парашют на высоте 400 метров, если с человеком что-то случилось, и он не смог открыть парашют самостоятельно. Очень точный и надежный прибор ПАС построен на измерении барометрического давления, зависящего от высоты подъема или падения. Давление атмосферы меняется, поэтому перед каждым прыжком надо выставить нуль на поверхности аэродрома. Поскольку на высоте 400 метров самолет находится и при подъеме, то прибор должен быть надежно заблокирован чекой, которая выдергивается после отделения от самолета. Я так подробно описываю прибор ПАС, потому что при его помощи мне удалось решить одну серьезную проблему в сварочном оборудовании, о которой, даст Бог, еще расскажу.
Залезть в кабину, будучи обвешанным парашютами, и имея собственные приличные габариты, - непросто. Мешает верхнее крыло над кабиной и расчалки между крыльями. Приходится изгибаться и выгибаться особым образом. В кабине можно сидеть только по диагонали: иначе заклинишься между приборным щитком и спинкой сиденья. Вылезать из кабины еще сложнее, тем более что все должно происходить в воздухе, при сильном воздушном напоре вне зоны маленького лобового козырька. Тренируют нас летчики аэроклуба, которые про это вылезание из кабины рассказывают удивительные истории. Вылезать надо на левое крыло, только там есть жесткая обрезиненная площадка. Вдруг в воздухе обезумевший одноразник, прошедший бесконечные тренировки, выскакивает на правое крыло. Веревка, которая должна открыть ранец, ложится на горло пилота слева направо. Пилот бросает штурвал и обеими руками еле успевает защитить шею от сильного удара веревкой…
Когда парашютист нормально выходит на крыло и стает лицом назад, то перед его глазами появляется стабилизатор - горизонтальное оперение хвоста самолета. В спину ему давит приличной силы воздушный поток. Многим кажется, что этот поток и инерция бросят его на оперение самолета. Большинство просто знает, что этого не произойдет: матушка-земля утянет раньше. Но некоторые стают на четвереньки и начинают двигаться на край крыла, - подальше от опасности. А крыло состоит из каркаса, на который натянута прокрашенная ткань. Если ткань прорвется, то такой предусмотрительный новатор застрянет в каркасе и самолет нельзя будет посадить. Летчик добавляет газ и резко берет штурвал на себя, чтобы сбросить незадачливого с крыла. Здесь уже точно есть опасение, что он попадет на стабилизатор, но летчику не из чего выбирать.

Нас учат приземляться. Парашютист, подвешенный стропами к своему спасителю, падает (пардон, – снижается) с вертикальной скоростью 6-10 метров в секунду, в зависимости от веса собственного, запасного парашюта и других грузов, например - боезапаса. С вектором вертикальной скорости суммируются векторы горизонтальной скорости от ветра и раскачивания парашюта. Удар при встрече с землей может быть такой, как при прыжке метров с пяти-шести, то есть со второго-третьего этажа. Чтобы не поломать ноги, приземляться надо умеючи. Откровение для многих, а также для меня: нельзя смягчать удар, вытягивая носочки. Удар надо принимать полной ступней, в том числе – пяткой. Ноги при этом должны быть полусогнутыми, корпус наклоненным вперед (при чрезмерном наклоне есть риск нокаутировать себя запасным парашютом). Ноги должны быть также плотно сжаты вместе, чтобы работать совместно. При этом падение на сторону тоже смягчает удар. Мне приходилось в кино и по ящику видеть много раз как небрежно и мягко приземляются парашютисты «на свои двои», причем широко расставленные. Они делают пару шагов, и остаются на ногах. Или это чудеса кино, или другие парашюты, или эти люди имеют куриный вес. Видел несколько раз, как приземлялась наша чемпионка, мастер спорта Нинель Швейнова (?). Девушка очень естественно приземлялась мягким местом, конечно смягчив сначала удар ногами.
Приземление, как в кино, мне пришлось видеть только один раз. Наш инструктор Хутько прыгал последним, прямо вблизи стоящих самолетов и автобуса, чтобы сэкономить время перед отъездом. Кроме того, надвигалась большая туча, и надо было торопиться. Эта туча и обеспечила нам невиданное зрелище. На высоте 60-80 метров парашют и его владелец перестали снижаться и зависли. Оказывается, на краю таких туч образуются мощные восходящие потоки воздуха. Хутько наслаждался, и не думал садиться. С земли с ним сначала шутили, спрашивали, взял ли он с собой продуктов. Хутько отвечал, что он теперь святой, и не нуждается в земной пище, как мы, прожорливые. Через несколько минут шутки с земли стали злее: ему пригрозили отъездом автобуса и доставкой парашюта на собственном горбу. Хутько горько посетовав, что святым людям вместо молитв возносят угрозы, вынужден был сесть, немного наклонив купол.
Следующая проблема, с которой нам надо было справляться, - гашение купола после приземления. Если есть хоть небольшой ветерок, а полный штиль бывает очень редко, - купол парашюта на земле начинает работать как парус, весьма энергично перемещая своего владельца по земле. Одного нашего он протащил по плантации зрелых помидоров, после чего шуточки томатного спонсора «Городка» выглядят детской забавой. Дело в том, что купол надо гасить сразу, выбирая нижние стропы. А если они успели закрутиться? Попытка подняться на ноги и догнать купол, оканчивается совсем весело: освобожденный от нагрузки купол немедленно набирает скорость и валит владельца с ног еще эффектнее.
Совсем еще юная история парашютного спорта набита прецедентами: трагичными и комичными, иногда - одновременно. При прыжках существует одна грозная опасность: перехлестывание стропы через купол, который в этом случае делится на две неравные части. Подъемной силы парашюту хватило бы и в этом случае, но беда в том, что части купола неравные. Возникает вращающий момент, который, скручивая стропы, может совсем свернуть купол, пока долетишь до земли. Самый простой и эффективный способ борьбы с перехлестыванием - обрезать непокорный строп. Для этого парашютистов снабжали ножами. В горячке спасения один отрезал половину строп, не найдя сразу нужного, после чего парашют стал похожим на белый флаг капитуляции. Другой нервный умудрился перерезать себе артерию на шее и приземлился уже мертвым. Поэтому выдавать и использовать ножи нам запретили.
Еще об одной отмененной инструкции. При посадке на воду инструкция предписывала отстегнуть парашют и прыгать в воду при ее близости: очень боялись накрытия куполом и запутывания парашютистов в стропах. Разбилось несколько человек. Провели эксперимент: не отпускать парашют, а стрелять из ракетницы, когда покажется, что вода совсем близко и пора прыгать. Выстрелы были даны на высоте 80 – 100 метров, что слегка высоковато для прыжков. Небольшой же ветер не только устранял накрытие куполом, а даже исправно тащил парашютистов по лону вод без всяких усилий с их стороны; другой вопрос - в нужную ли сторону.
Начиненные знаниями, навыками, байками и страхами как современные сосиски соей, мы подошли ко времени «Ч», - первому прыжку. Мне перед прыжком предстоял вообще первый подъем и полет в воздухе. Попову было легче: он часто летал самолетами в Ригу к предкам. Я же выше деревьев нигде не был.
На Святошинском аэродроме три «кукурузника» поднимали по одному «одноразников». Подошла моя очередь подняться в небо. Надел на себя учебные парашюты, - фактически муляжи с нашитыми спереди и сзади большими красными квадратами. Это для пилота, чтобы сдуру не дал команды на прыжок. Первый подъем - для облета. Я должен смотреть попеременно на альтиметр и на землю, чтобы потом ориентироваться в высоте своего пребывания. Забрался в первую кабину, как учили, уселся, отметил ноль альтиметра, доложил летчику о готовности к подъему.
Взревел мотор славного У-2. Покатили по кочкам все быстрее. Отрыв, земля быстро уплывает, кочки уже не чувствуются. Взлетели. Радость от полета неописуемая. На высоте 100 летчик делает разворот с набором высоты. Только теперь внизу видна отчетливо земля, до того я видел ее только далеко впереди сквозь полупрозрачный круг винта, боковой обзор закрывают крылья, назад - не хватает поворота головы. Озабочен вопросом: что же видит летчик с кабины за моими плечами. Земля почти перестает под нами двигаться, хотя мотор ревет все так же натужно. Есть 400 метров подъема! Смотрю на землю рядом с крыльями, справа и слева. Внизу земля уже слегка напоминает политическую карту мира, только совхозные поля с разным цветом культур уж больно прямоугольные. Поднимаю руку для пилота, дескать, высоту засек. Мой доклад он не услышит из-за рева мотора. Еще взбираемся метров на 100. Разглядываю Киев. Все незнакомо, не могу найти ни одного ориентира. Мотор внезапно почти затихает, а все внутренности неожиданно оказываются в горле. Быстро снижаемся, заходим на посадку. Земля бежит навстречу все быстрее, опять кочки. Сели. Летчик – инструктор нашей подгруппы Григорий Кузьмич Мартыненко сел раньше и принимает меня у крыла, оценивая мое вылезание из кабины. Вроде ничего. Внимательно осматривает. «Ну, как?» Я, улыбаясь, показываю большой палец. Наш Кузьмич доволен и принимает решение: «Ну, тогда полетели выше!».
Снимаю парашют с «красными лампасами» и надеваю цвета хаки. Кузьмич собственноручно проверяет все зазоры под лямками, приказывает: «Присядь!», «Садись в гамак!» (по этой команде я передвигаю основную лямку сзади ближе к коленям и усаживаюсь на нее как бы в качели). Кузьмич еще раз внимательно осматривает и трогает замки на лямках и на ранцах обоих парашютов, затем жестом приглашает меня за собой. Усаживается в кабину самолета и дает мне команду: «Залезай!». Я стаю на крыло, подаю ему конец страховочной веревки, связанной с замками основного парашюта. Летчик надевает карабин страховочного фала (так называется эта веревка официально) на специальное кольцо в левом борту своей кабины и дергает его. Я проверяю надежность закрепления фала так же. Это незыблемый ритуал, который должен строго соблюдаться. Каждый, кто автоматически совершает последовательность простых рутинных операций, знает, что стоит опустить или заменить хотя бы одно такое действие, как немедленно начинается сбой, и за ним - цепочка непредсказуемых последствий. Здесь ценой неточности могут стать «легкие ушибы» при падении с высоты почти километровой.
По командам ритуала сажусь, проверяю, даю знак, что готов. Мотор взвывает, мы разгоняемся и взлетаем. На этот раз подъем длится дольше: на нашем трепещущем от напряжения суденышке мы карабкаемся на высоту 800 метров. С такой высоты на земле все выглядит очень мелким, а самолет будто останавливается. Обороты мотора уменьшаются, слышу команду «Вылезай!» «Есть, вылезай», - отвечаю по науке. Вылезаю на трепещущее крыло, держусь левой рукой за борт кабины, правая поддерживает слабину фала. В спину туго давит воздух. Только отсюда, с крыла самолета, виден весь Киев, наше Брест-Литовское шоссе, а в дымке - даже Подол и днепровские пляжи. Я жадно разглядываю эту картину. Пилот, сам парашютист, знает, как волнуются одноразники, и чтобы успокоить меня, перекрикивает шум двигателя: «Ну, магарыч мне поставишь после прыжка?» Я знаю, что это просто шутка нашего честнейшего Кузьмича, улыбаюсь и говорю: «Красота какая!». Я нисколько не боюсь. Кузьмич улыбается, десяток секунд разглядывает какие-то ориентиры на далекой земле и отдает команду «Пошел!» С улыбкой я делаю шаг в Ничто.
Уже через мгновение я начинаю понимать весь ужас и необратимость содеянного. Я падаю в бездну. Хочется схватиться хотя бы за соломинку, но ее нет. Так долго я не падал еще никогда.
Сильный удар встряхивает меня, как паяца на ниточке. Это целебный удар: раскрылся парашют, я подвешен к нему на множестве строп, купол - круглый, перехлестывания нет. Я жив, я цел. Усаживаюсь на лямку и осматриваюсь. Полная тишина, только в ушах шумит пульс. Самолета не видно и не слышно. Земля где-то внизу сама по себе и совершенно неподвижна. Вокруг - вверх, вниз, со всех сторон у меня только небо и воздух. Я неподвижной точкой подвешен в этом огромном пространстве к маленькому лоскутку ткани. Я начинаю что-то орать и петь от восторга.
Взглядываю на землю: она все-таки приблизилась. Проверяю свою возможность поворота относительно парашюта. Мы используем совершенно круглые военно-десантные парашюты ПД-6. Они открываются сразу, поэтому удар при открытии весьма сильный. Кроме того, они не имеют собственной горизонтальной скорости и движутся только по ветру. Купол неподвижен, парашютист должен стропами развернуться так, чтобы земля бежала под ноги, иначе придется падать на спину. Проверил, вращаться могу. Земля ощутимо приблизилась. С ужасом замечаю, что сяду в стадо коров. Однако проносит. К намеченной точке приземления со всех ног несутся пацаны, пасущие коров. Кричу им сверху: «Берегись! Шею сломаю!». Земля приближается и бежит под ноги теперь очень быстро, затем - все быстрее и еще быстрее. Сильный удар, я заваливаюсь и по науке начинаю гасить купол.
Мои пастушки - опытные «ловители» парашютистов, добегают вовремя куда надо и активно помогают мне собрать парашют и отстегнутые лямки в специальную сумку в ранце. На радостях я совершаю антипедагогический поступок: отдаю им половину имеющихся сигарет. Пастушки тащат мой парашют метров двести, затем отдают: им надо смотреть за коровами. Я благодарю их за службу и взваливаю сумку на свои плечи: мне шагать еще около километра к аэродрому…
Попов тоже прыгнул. Он видел небо раньше, теперь познал паденье. Я получил эти ощущения «пакетом». Потом мне приходилось много летать на самолетах разных типов и на вертолетах. Должен заметить, что ощущение полета на трепещущем По-2 не идет ни в какое сравнение с полетом в летающих автобусах, тем более, когда стоишь на хлипком крылышке этой небесной этажерки. О непередаваемых чувствах подвешенного к тряпочке в безбрежном воздушном океане, - я уже живописал.
Вступление в стройные ряды парашютистов-спортсменов заняло недели две. И вот мы с Юрой Поповым полноправные члены воздушного братства. Всего спортсменов в нашей группе – человек 10. Из КПИ – еще двое: Толя Пасс делает уже шестой прыжок, а Юра Модерау (он показан на фото впереди Кузьмича) завершает второй десяток. Остальные, - тоже почти все студенты.
Проходим дополнительную подготовку, и катим из аэроклуба на тот же аэродром для второго прыжка в своей жизни. Условия изменились. Теперь уже парашютист командует пилотом, согласно своему заданию. У меня задание сесть поближе к Центру круга с буквой «Т». На земле получаем данные о скорости ветра на высоте, поправку на снос я вычисляю по эмпирической формуле; кроме того, я могу управлять парашютом, - скользить в любую сторону. Вывозит меня опять Кузьмич; он сам опытнейший парашютист, поэтому его расчетам и интуиции я верю больше, чем своим. Кстати, на соревнованиях на точность приземления - это основной вид соревнований, – нас будут вывозить обычные летчики. По рассказам, они сами страх не любят прыгать с парашютом, и мучительно переживают, когда раз в год (?) им надо оторваться от самолета. А уж когда незнакомый человек вылезает на крыло их самолета, и, держась одной ручкой за борт, начинает командовать «держи право, держи лево», - бедные летчики сами не свои от переживаний.
Фал у меня теперь потоньше: он выдергивает только маленькую чеку из парашютного автомата ПАС-400, который откроет парашют на высоте 400 метров, если я не сделаю этого раньше. Во время прыжка моя правая рука находится на левой лямке, где закреплено кольцо основного парашюта. Кстати, были случаи, когда от волнения это кольцо дергали стоя на крыле, или немедленно после отделения от самолета. Ничего хорошего при этом не бывает: купол обычно цепляется за хвост стабилизатора, а парашютист на стропах болтается за самолетом. Если он или летчик не придумают способа разделения, то жертвы неизбежны.
Второй прыжок у меня был очень тяжелый. Не знаю, боялся ли я. Только тело перед посадкой в самолет стало вдруг непослушным, руки-ноги - ватными. Они помнили свободное падение, они помнили скорость набегающей земли приземления. Огромную радость полета и тишину неба помнил только мозг. Заученными движениями, со всеми словами по ритуалу, я втиснулся в первую кабину. Не знаю, заметил ли Кузьмич мое состояние, естественно я старался его не показывать. Наверное, заметил, потому что не шутил. Сам рассчитал точку выхода, и когда я вылез на крыло, внимательно посмотрел на меня. «Готов?». «Готов!». «Пошел!». «Есть пошел!», - ответил я и шагнул в бездну.
Если бы тогда кто-нибудь внятно объяснил, что дикое чувство падения в никуда и есть состояние невесомости, которое будет постоянным при космических полетах!
Во время падения я заставил себя смотреть на далекую землю. При первом прыжке я ничего не видел. Было интересно: видно ли приближение земли при падении? Нет, расчерченная карта земли оставалась одинаковой. Немножко попАдал. Дернул кольцо. Хлопок раскрывшегося парашюта, мощная встряска в подвесной системе. Теперь глаза видят только небо и далекий горизонт в голубой дымке. Усаживаюсь в подвеске. Опять хорошо, хочется орать и петь. Ради этого чувства стоило прыгать. Однако, у меня задание. Осматриваюсь, еле нахожу далекий кружок с буквой «Т». Он далеко в стороне. Неужели Кузьмич так промахнулся? Нащупываю нужную половину строп и слегка «набекрениваю» купол. Никакой реакции: земля все также остается неподвижной, а точка посадки - далекой. Усиливаю натяжение. Тут надо соблюдать меру: скорость смещения в сторону возрастает, но растет и скорость снижения. Вскоре точка посадки прямо подо мной. Отпускаю стропы. Увы, ветер, частью которого являюсь я с парашютом, теперь удаляет меня от точки посадки. Зря я дергался: Кузьмич рассчитал правильно! Щелкает ПАС, пытаясь опять раскрыть парашют. Это значит, что высота уже меньше 400 метров и всякие скольжения запрещены. Обидно. Я заваливаю первое задание спортсмена, мне придется повторять нормативный прыжок. Но до земли еще далеко, и я пытаюсь исправить положение: легонько даю парашюту обратный ход. «Т» прекратило уходить. Добавляю еще, вожделенный кружок уже движется ко мне, но и земля уже близко. Бухаюсь на землю метрах в 100 от круга.
Кузьмич делает мне приличный разнос за скольжение ниже 400 метров: он, оказывается, все мои дерганья видел и понимал. Тем не менее, прыжок засчитан с некоторой натяжкой. На автобусе возвращаемся в аэроклуб. Мы спортсмены теперь уже не беззаботные одноразники: прыгнул, получил значок и будь здоров. Нам предстоит перебрать десятка два пухлых мешков со сработавшими парашютами и вновь уложить их в тугие ранцы, - для себя, инструкторов и одноразников. Раньше мы прыгали на круглых десантных парашютах ПД 6, теперь – на квадратных ПД 47. Старые открывались сразу, из-за чего парашютист получал сильный удар. Теперь из открытого ранца выскакивает сначала маленький вытяжной парашютик, похожий на самораскрывающийся зонтик. Именно он стягивает ярко красный чехол с купола парашюта, который благодаря этому наполняется медленней, значит удар - мягче. Однако за все надо платить: вытяжной парашютик с чехлом может улететь очень далеко, и его поиски могут занять немало времени. У беззаботных одноразников чехол остается у летчика, который и втягивает его в кабину. Парашюты ПД 47 имеют еще одно свойство, которое действует иногда хорошо, иногда - плохо. С задней стороны купола нет нескольких строп, и значительная часть воздуха из под купола устремляется именно туда. Почти нет раскачивания, система получает горизонтальную скорость так, что земля движется под ноги. Купол в воздухе не развернуть, и если парашют несет не туда, куда надо, - приходится напрягаться.
Укладка парашютов - дело ответственное и трудоемкое, требующее, кроме внимательности и скрупулезной точности в работе, также больших физических усилий. От раскрытия парашюта напрямую зависит жизнь человека и здесь не место какому-либо разгильдяйству или послаблениям. Традиция и закон: парашют для себя укладываешь сам, проверяет тренер-инструктор, о чем обязательная расписка в формуляре.
Укладка двух десятков парашютов занимает часа три тяжелой работы пяти – шести человек спортсменов. Но мы молоды, сил избыток. Начальство уже ушло, и наши взоры обращаются на телефон. Заключаются пари: кто быстрее договорится о свидании. Набирается любой номер телефона.
- Будьте любезны, можно попросить ….очку, - невнятно произносится имя.
- Леночку? - переспрашивают на том конце.
- Да, да, пожалуйста Леночку! Трубку берет Леночка (Маша, Дуня, и т. д.)
- Леночка, вы меня не помните, но мы с вами встречались один раз…(длинное невнятное бормотание: связь подводит).
- На свадьбе у Миши? - переспрашивает Леночка. (Там был кто-то, кого она наверняка отметила и очень надеялась на звонок).
- Да, да, да! Вы мне очень понравились, но мне кажется… (связь опять подводит).
- Но почему вы тогда не позвонили?
Это уже разговор. Еще несколько «ухудшений» связи, которые уточняет Леночка, затем следует договоренность о свидании и его месте. Бедная Леночка! Она не знает, что этот треп просто пари и отдых очень занятых людей. Иногда, бывает, нарываемся на мужскую грубость: «Еще раз позвонишь, - руки-ноги обломаю!». Наше пари - безденежное и беспредметное, победители и побежденные уносят только «чувство глубокого удовлетворения» и хохот товарищей по небесному спорту. Первым делом - самолеты!
Прыгаем два – три раза в неделю. Отрабатываем разные элементы, например спуск на двух парашютах, спуск на одном запасном. Основное внимание, конечно, - точности приземления. Готовимся также к прыжкам с задержкой раскрытия парашюта, - это один из сложных видов соревнований. Минимальная задержка - пять секунд, за это время парашютист пролетает в свободном падении около 200 метров. За неточность в любую сторону судьи наказывают штрафными очками. Секундомеры запрещены. Отрабатываем темп счета. Если вслух произносить счет от 21 до 29, то получается ровно 5 секунд. Задача - отработать темп счета при падении: у некоторых он ускоряется, кое у кого замедляется.
Очень хочется заснять все наши подвиги на пленку. У Попова два фотоаппарата, которыми работаю в основном я. Однако - «низзя», мало ли что с высоты мы можем заснять в столице Советской Украины. Кузьмич подсказывает: надо бумагу. Приносим из института бумагу, что снимки нужны для газеты института, где будут показаны все спортсмены. Аэроклубу тоже нужны такие снимки для стендов. Получаем разрешение и даем подписку, что не будем снимать, что не положено, например, - город с высоты. Заряжаем ФЭД новейшей пленкой; для более совершенной «зеркалки» – аппарата «Рефлекта» - широкой пленки нет. Решаем отснять на ней несколько оставшихся кадров. Кузьмич нам помогает: поднимает в воздух два самолета. На одном сижу я с фотоаппаратом. На высоте самолеты идут рядом. Я снимаю выход Юрки из кабины, прицеливание на крыле, шаг вниз и раскрывающийся купол уже сверху. Чтобы не повредить фотоаппарат при вылезании из тесной кабины, Кузьмич сажает самолет со мной. Теперь фотоаппарат берет Попов, и самолеты опять взлетают парой. Юрка снимает все стадии моего прыжка. Пленка вся экспонирована, уже на земле делаем еще несколько кадров Рефлектой. Дома с трепетом фильтруем воду, подогреваем по справочнику до нужной температуры, растворяем химикаты строго по рецепту, заливаем в бачок проявки, проявляем по секундомеру. Сливаем проявитель. Почему-то в нем плавают черные хлопья, что вселяет некоторую тревогу. Промываем чистой водой, заливаем фиксаж. Через положенные минуты вынимаем…чистую прозрачную пленку! Большей катастрофы в своей жизни я не припомню, она аукается до сих пор. Из нескольких кадров Рефлекты, два наземных снимка помещены здесь… Стыдно смотреть в глаза Кузьмичу. Всякие повторные съемки, конечно, исключены – раз и навсегда…
Я уже довольно опытный парашютист, отделяюсь от самолета совершенно свободно, умею скользить, хотя еще ни разу в десятку не попал. На пятом прыжке у меня ЧП: перехлестывание стропы через купол. Надо открывать запасной парашют. При частично работающем главном куполе это очень не просто: нельзя упустить вниз купол запасного. Тогда, при закручивании основного купола, запасной снизу не наберет воздуха и саваном обвернет падающего все быстрее парашютиста. Дергаю кольцо запасного, ранец со щелчком раскрывают тугие резинки. Сначала только одной, потом обеими руками удерживаю на животе свернутый купол запасного, затем со всей силой бросаю его в сторону. Нехотя купол наполняется воздухом, распрямляется и ползет вверх. Смотрю на главный купол: перехлест соскочил. Приземляюсь на двух парашютах вдали от центра: управлять двумя куполами почти невозможно: они оба стоят под углом и взаимодействуют. Скорость снижения при этом не уменьшается.
Очередная неприятность меня ожидала на девятом прыжке. На высоте сильный ветер дул в другую сторону. Я это почувствовал сразу после отделения от самолета. Расчетный ветер должен был двигать меня к «Т», этот же тянул в другую сторону. Даже большое скольжение в нужном направлении не помогает: ветер сильнее. Метрах на пятистах начинаю понимать, что приземлюсь в один из четырех черненьких кружочков. Мы знаем, что эти, такие безобидные с высоты, кружочки, - поля орошения. Это красивое научное слово обозначает большой глубокий бассейн, куда качают нечистоты с канализации почти всего Киева. Проскочить «поля» мне не хватает высоты, скольжение в обратную сторону - не помогает. Про себя решаю: лучше разбиться, чем утонуть в нечистотах. На высоте около 300 метров выбираю полкупола на себя и начинаю быстро падать. Земля стремительно приближается, зловонные круги вырастают в размерах, но уходят в сторону. Отпускаю стропы, купол хлопает и гасит скорость падения. Через несколько секунд грохаюсь на такую желанную твердую! землю и быстренько гашу купол, который тянет меня к зловонному озеру. Надо бы немного отдышаться, но меня облепляют невиданные желтые мухи, и я, кое-как запихнув парашют в сумку, бегом уношусь подальше от язв цивилизации. О чехле с вытяжным парашютом я и не вспомнил. Его на другой день принесли пастушки - наши верные оруженосцы.
На разборе полетов Кузьмич только покачал головой: «Ну, ты даешь, парень!», - он себя тоже чувствовал виноватым за нештатный ветер. По-видимому, именно тогда он решил «делать» из меня мастера парашютного спорта и на следующем прыжке начал разговоры о заданиях для второго спортивного разряда. Он хотел поскорее выполнить со мной нормативы второго разряда, чтобы двигаться дальше. Я не мог обидеть отказом своего заботливого летчика и инструктора и малодушно поддакивал ему. Про себя я уже решил остановиться на третьем разряде: аэроклуб пожирал все больше времени, а мне его катастрофически не хватало. Кроме того, в институте начались разговоры о постройке собственного планера с пусковой установкой. На таком летательном аппарате можно было не только падать, но и летать, и подниматься вверх. Планер, кажется, построили, но я к тому времени уже перестал быть студентом.
Десятый нормативный прыжок на точность приземления я выполнил на «отлично». Для зачисления на второй разряд надо было проходить опять медкомиссию. Я ее благополучно завалил по зрению, чтобы меньше огорчать добрейшего Кузьмича своим прямым отказом. Воздушная страница моей биографии закрылась. Все последующие приключения в воздухе происходили со мной уже в качестве пассажира: например, боевой истребитель сбивал наш почти мирный ИЛ-14 над проливом Карские Ворота, вертолет влетел в совершенно немыслимой плотности туман на Новой Земле…
Значок «Парашютист-спортсмен» с цифрой 3, обозначавшей разряд, я носил с большей гордостью, чем орден. Подвесное сердечко с невзрачной цифрой «10» я вообще оторвал: в сравнении с десятками и сотнями прыжков наших инструкторов и мастеров моя лейбла выглядела слабовато…
Смелость и мужество парашютисту, особенно на первых прыжках, конечно, требуются немалые. С завистью смотрел на нас с Поповым Славка Тышкевич:
- Неужели вот так бросаетесь с крыла вниз? Ужас какой! Я бы так не смог!
А вот сам «пан Тышкевич» (такая у него была партийная кличка, очевидно за весьма аристократичный вид) в то же время на мотоцикле объезжал вузы Киева, и, в качестве квартиродателя, взимал с них по 15 рублей за каждого, якобы пригретого им студента. Сам он тоже снимал угол, и хорошо усвоил механику расчета вузов с владельцами комнат и «углов», сдаваемых студентам, не попавшим в общежития. У Славки была обширная база данных по всему Киеву о студентах, которые жили у родственников, и не претендовали на скромную субсидию института. Ужас какой! Я бы так не смог! В конце концов, Тышкевич попался, и получил срок. Как сложилась его судьба, - я не знаю. Жалко его: парень был не без способностей.
Науки юношей питают.
Конечно, основным нашим делом все-таки оставалась учеба, во всяком случае, - по затрачиваемому времени. Обстановка в комнате общежития - это главное в успешной учебе. Недавно (март 2004 г.) получил письмо от ЦВ, в котором он делится воспоминаниями о жизни в общежитии. На первом курсе он жил в комнате с некими ленивыми и нечистоплотными жлобами, которые задавали тон всей жизни и учебе, точнее - игнорированию этой самой учебы. Мне в этом смысле повезло. Ребята были нормальные. Да и я был уже не робкий паренек из глубинки, которому можно навязать иной стиль жизни, тем более - командовать. Особенно хорошо мне работалось с Колей Леиным. Коля окончил техникум, я – успел поработать, поэтому нам обоим учиться было интересно: мы находили ответы на многие вопросы, ранее непонятные, или сокрытые «оптимизмом невежества». Мы до двух часов ночи могли решать головоломные интегралы, проектировать небывалые муфты сцепления и редуктора, решать хитрые задачи по теормеханике или сопромату. Младшим и кое-кому из своих, - всегда приходили на помощь. Так Коля просто тащил на себе шаловливого и неорганизованного Жорку Олифера, всеобщего любимца. Кое из чего мы даже извлекали небольшую прибыль. Так мы сделали для неуспевающих (по времени, ха – ха!) несколько проектов по деталям машин. Работу – расчет по заданным параметрам и чертежи, на которые уходит около двух недель у среднего студента, мы в четыре руки делали за один большой вечер. В этом деле нам здорово помогал «козоскоп». «Козой» назывался первоисточник, который «дерут». На моей кровати на табуретках устанавливалась стеклянная столешница, под которой была закреплена лампа кинопроектора мощностью целый киловатт. Лампу надо было ставить строго вертикально: ее стекло во время работы ставало мягким. Такой мощный свет пробивал два листа полуватмана. Нижний лист и был «козой»: с него «сдирались» типовые детали, например - подшипники, которые рисовать довольно муторно и долго.
О приключениях с начертательной геометрией я уже писал. Хочется вспомнить о других предметах и преподавателях. Не все предметы, отраженные как-то в этих заметках, были главными, но так устроена человеческая память: видны отдельные деревья, и не всегда – лес.
Физика. С физикой нам просто не повезло. На параллельных потоках лекции читал бывший профессор Савченко. Он оставался в оккупированном немцами Киеве, имел какие-то взаимоотношения с немцами, поэтому был лишен всех званий и наград. Из-за страшного дефицита с грамотными кадрами, его все же допустили к чтению лекций. Так вот, его лекции были настолько яркими и понятными, что на них всегда набивалось народу под завязку, стояли в проходах, сидели на ступеньках. Это были студенты с других курсов и факультетов. Места надо было занимать заранее, иначе - не протолпиться.
Нашему же потоку читал физику некий ученый, сравнительно молодой, но уже лысый. В начале лекции он поворачивался к аудитории спиной, рисовал какие-то непонятные формулы, и произносил в нос слова с выговором, требовавшим длительного вмешательства логопеда еще на стадии детсадика. Народ быстро понял, что сидение на этих лекциях - пустая трата времени. Из потока около двух сотен человек на лекции сидело человек двадцать. Из них человек пять самых добросовестных и упорных пытались что-то конспектировать, остальные просто коротали время в «морских боях» или готовились к другим занятиям. К концу лекции наш «препод», как теперь говорят, замечал, что он читает лекцию «никому». Тогда он своим гнусавым голосом начинает с нами заигрывать:
- Приходите на следующую лекцию, - будут очень интересные опыты. Приходите, пожалуйста, и скажите всем своим друзьям, чтобы пришли!
На следующую «рекламную» лекцию собирается народу на десяток больше. Начало лекции обычное, и все начинают обычные занятия. Проходит минут пятнадцать. Внезапно подает возмущенный голос флотоводец, только что проигравший морской бой:
- А где опыты? Где опыты??? - стучат ногами остальные проснувшиеся. - Давай Магистра Могилу! - в полный голос негодует обманутое общество. Кто-то уже стучит в боковую дверь аудитории. Оттуда вопросительно выглядывает вполне мефистофелевская голова «Магистра Могилы», ассистента нашего «препода».
- Опыты!!! - бушует народ. Магистр молча начинает выносить из своей подсобки непонятные приборы и провода. На столе собирается схема, между двумя шарами змеятся синие молнии разряда. Затем все берутся за руки, цепочку замыкает наш гуру. В руке у него булава, из которой шипят маленькие молнии разрядов, к чему бы он ее не приблизил, в том числе к сладко спящему студенту. Тот взвивается и ошалело смотрит на веселящуюся толпу…
(Теперь я знаю, что так работают искровые осцилляторы, генерирующие колебания высокой частоты и напряжения. Они нужны сварщикам для стабилизации дуги при сварке алюминия в аргоне, для зажигания дуги при плазменной сварке и резке. Уйму времени и сил я потратил, чтобы обуздать эти капризные приборы, особенно в полевых условиях…)
Лабораторные работы по физике почему-то мало связаны с теорией. Мы ставим опыты, замеряем данные, пишем отчеты. Электричество, теплопередача, оптика, механика - все очень интересно. Особенно мне нравится изящная математическая теория ошибок. В каждой работе мы должны вычислить погрешность полученного результата по этой теории. Начинаешь понимать, как способ замеров может влиять на полученный результат. Это уже не физика, а чистая практика с изрядной примесью философии. Вообще, - математика не только наука о вычислениях чего-либо; – это мировоззрение. Если бы математикой глубоко владели политики и люди искусства, то их «продукция» не имела бы внутренних противоречий и всяких нестыковок и неизмеримо большую глубину…
Однако незаметно подкрадывается сессия: физику надо сдавать. В голове даже не хаос, а просто пустота. Читать толстые учебники, конечно, можно; понять и запомнить, что там написано, - нельзя. Перед экзаменом появляется объявление: ассистент Богданович N. N. дает консультацию. Умудренные старшекурсники в один голос вопят: “Иди! Записывай!” Идем, берем тетради. В аудиторию входит невысокий и худощавый человек с седыми волосами и большими очками под кустистыми бровями. Он еле заметно покачивает головой, как будто задумчиво говорит «нет». Рассказывают, что на экзаменах студенты прекращают ответ, думая, что экзаменатор возражает. Богданович тогда успокаивает: «Говорите», - продолжая покачивать головой с явным значением: «Лучше бы ты замолчал».
- У вас нет ко мне вопросов, потому что вы ничего не знаете, - спокойно обозначает Богданович наше истинное положение в науке физика. - Начнем с начала.
На доске он рисует маленький кружок. Это молекула. Рядом с ней помещаются еще несколько. Им тесно, поэтому их количество степеней свободы ограничено (вот бы удивились певцы Свободы, узнав, что она имеет много степеней!). На доске постепенно вырастает формула, значение каждой цифры и буквочки которой становятся логичными и понятными. Минут через 20 все основные формулы молекулярной физики стают нам близкими и родными: мы сами их создали из простых и очевидных рассуждений. Без перерыва переходим к следующим разделам физики и одолеваем их так же легко. Два часа мы работаем без перерывов. В беглом конспекте есть все физические формулы, которые нам надо знать, и которые мы теперь знаем. Но что формулы: мы теперь знаем Физику! Экзамен прошел успешно. Увы, талант преподавателя так же редко встречается, как и любой другой…
Случайная встреча в будущем. Где-то в середине семидесятых годов мы с женой возвращались из отпуска в Виннице. Пришли мы на вокзал, чтобы заказать билеты на поезд Одесса - Ленинград. В билетном зале для продажи билетов на проходящие поезда большая толпа народа стремилась уехать в Киев, но на ближайший поезд было только несколько билетов, которых явно «маловато будет». В конце очереди стоял наш Богданович, измученный жарой и духотой, без всякой надежды уехать. Я подошел к нему, спросил, куда ему ехать. Он с опаской оглядел меня: почему этот военный в морской форме интересуется его маршрутом. (Форму я надел, чтобы было проще общаться с воинскими кассами). Я вежливо ответил, что хочу помочь ему взять билет. «Мне надо срочно в Киев», - с некоторой опаской ответил Богданович. Я пошел в почти пустую воинскую кассу, купил билет до Киева и передал его Богдановичу (к сожалению, я не помню сейчас имени-отчества этого замечательного человека). Он удивленно взял билет, попытался вернуть деньги «с комиссионными», удивленно спросил, почему к его особе проявлено такое внимание. «Я ваш студент! - произнес я тоном классического заявления «Я - Дубровский!». Затем кратенько рассказал о его консультации, во время которой мы овладели Физикой. Доброе слово и кошке приятно, тем более преподавателю вуза, которому вряд ли надоедают признаниями бывшие ученики. Старик растрогался, я - тоже…
Плюс электрификация.
Электричеством я начал заниматься еще в глубоком детстве, когда впервые взялся за голый провод под напряжением в Бердичевской больнице. Бесконечные вопросы инженеру-электрику дяде Антону и его пояснения только разожгли мой «электрический» аппетит. Активно изобретать в этой области начал в 1944 году, когда кипятильник моей конструкции чуть не сжег жилище дяди Антона. Неудавшаяся попытка электрификации деребчинской хаты с натяжкой тоже может быть занесена в категорию занятий электричеством. Ну а дальше - завод, сварка, - это вообще море разливанное непонятного и такого интересного электричества. Когда в институте у нас в расписании появилась «Электротехника», я заранее предвкушал удовольствие от грядущего познания тайн электричества.
Действительность была несколько хуже. Лекции по электротехнике нам читал некто Уласик. Это был злобный и желчный тип, который не любил весь мир, в том числе - студентов и электротехнику, которая его исправно кормила, между прочим. Он не только не любил свой предмет, - очень подозреваю, что он его и не знал. Видно темой его диссертации было что-то по магнитной индукции, которую он более-менее освоил. Все лекции мы проводили в записях трехэтажных формул этой самой индукции, смутно представляя, куда их можно притулить. Когда темой лекции были нужные вещи: электродвигатели, трансформаторы, сети, - он бегло перечислял параграфы и скатывался опять на свою индукцию. Если к неопределенности его лекций добавить какую-то облезлую «морду лица» с гладко зачесанными остатками рыжеватых волос и невнятную дикцию, с тональностью разгневанного своим народом диктатора, - то стает обидно за всю электротехнику.
Тем не менее, - экзамен надо было сдавать. Пришлось разбираться по учебникам, после чего наступила ясность по всем вопросам конспекта, я полагал, -по всему курсу электротехники, прочитанному нам вышепоименованным Уласиком. На экзамен я шел спокойно: я все знал. В вытащенном билете озадачил только один вопрос, о котором я понятия не имел: «конденсатор в цепи постоянного тока». Такой темы не было ни в одном конспекте, мы много знали о конденсаторах в сетях переменного тока, где они широко применяются для компенсации реактивных токов и увеличения cos φ. (Кстати, вопрос очень актуальный для сварочного оборудования, у которого этот самый cos φ очень низкий). Я тяжко задумался. В это время по военной специальности мы уже изучали автомобиль, где параллельно контактам прерывателя зажигания обязательно ставят конденсатор. Я нарисовал схему, составил дифференциальное уравнение, решил его, получил изящную формулу заряда – разряда конденсатора: это было число «е» - основание натуральных логарифмов в степени, в которой были индуктивность и емкость. Довольный сотворением научного подвига на студенческом экзамене, иду к Уласику. Он делает морду кислей обычной и произносит: «Это правильно, но я вам давал (?) формулу для последовательного подключения конденсатора!». Захотелось взвыть, врезать пролетарским кулаком по ненавистному фейсу и спросить: «Где в билете написано, что конденсатор надо подключать последовательно???». Забираю билет, сажусь снова, проделываю расчеты для последовательного соединения, опять получаю красивую формулу. Проверяю ее просто: после достижения максимального заряда ток должен прекратиться. Все правильно. Иду к Уласику. Он нехотя соглашается, что формула правильная, но ставит мне четверку, только за то, что я слишком долго готовился к ответу.
Ни один экзамен не вызывал у меня таких бешеных чувств, как этот. Дело было не только в том, что я на семестр потерял повышенную стипендию. В отличие от справедливого Павлова, подлый Уласик очень хорошо знал, кто перед ним сидит: моя зачетка с оценками за два курса лежала перед ним на столе. Он хотел унизить меня и поставить мне двойку или тройку, заставить прийти к нему еще раз на пересдачу. Когда не вышло, - пришлось придраться к «длительному времени».
Когда я решал в жизни очередную «электрическую» головоломку или изобретал рабочую установку, про которую целый профильный институт говорил, что этого сделать невозможно, я неизменно повторял про себя: «А ты, подлый Уласик, поставил мне четверку по электротехнике!». Совсем недавно, снимая копию с диплома и приложения, я с удивлением обнаружил, что по электротехнике у меня стоит «пятерка». Наверное, тот запомнившийся экзамен был промежуточным, а выведена общая оценка. Однако, мои обращения к бывшему Уласику остаются в силе: ведь ругаю я его, в конечном счете, не за оценку, а за недооценку моего экзаменационного «подвига»!
Материалы очень сопротивляются.
Наука «сопротивление материалов», на сленге - сопромат, не обижена студенческим фольклором. Сопромат начинают изучать уже после овладения основными инженерными науками - математикой, теоретической механикой и рядом смежных дисциплин. Если они преодолены кое-как, то для таких товарищей сопромат стает непреодолимым барьером, иногда - просто причиной крушения всех жизненных планов. Поэтому вершина студенческого фольклора по сопромату гласит: сдал сопромат, - можешь жениться. В этом афоризме видна также роль сопромата как преграды для юнцов-скороспелок, которые, задолго до овладения такой важной наукой, уже очень «хочут» жениться…
Рабочими понятиями сопромата являются момент сопротивления и момент инерции сечения. Если первый измеряется в кубических сантиметрах, которые можно представить в виде насыпанных горкой кубиков льда, то второй оперирует этими сантиметрами в четвертой степени, что уже близко к кошмарам больной психики. Конечная цель всех расчетов по сопромату - определение напряжений и деформаций в конструкции, чтобы решить главный вопрос: выдержит ли она уготованные судьбой жизненные нагрузки. К сожалению, очень часто приходится решать эту задачу «задним ходом». Конструкция уже рухнула, и надо ответить на простенький вопрос: почему она рухнула (читай: кто виноват)?
Сварка, из-за местного нагрева, создает хитрым способом свои собственные, очень большие, внутренние напряжения, которые часто могут суммироваться с рабочими. История полна примеров крушения огромных сварных конструкций - кораблей, резервуаров, мостов и т. п., в которых товарищи «слегка недоучли». Поэтому, сопромат для сварщика, что Библия для попа.
Мне нравилась эта наука. Она позволяла сосчитать, взвесить то, что раньше угадывалось только интуитивно. Каждый школьник знает, что линейку можно согнуть плашмя и нельзя - на ребро. А, собственно, почему? Линейка-то одна и та же. А какую линейку и как ее надо ставить, чтобы по ней мог проехать автомобиль? Гораздо позже, когда разгорался спор на тему «выдержит - не выдержит», я говорил: «Давайте сосчитаем». Увы, большинство спорящих смотрело на меня, как на пришельца из иных миров. Значит, им удалось в свое время переползти через барьер сопромата без всяких потерь для карьеры и здоровья. И все уже были женаты…
Лекции по сопромату нашему потоку вместе с механиками читал профессор Федор Павлович (?) Белянкин, человек безупречной вежливости, доброты и интеллигентности. Практические занятия вела Мария Матвеевна (?) Сергеева, женщина небольшая, «пушистая» и непосредственная. По данным студенческого телеграфа - она была балериной, но из-за безумной любви к Белянкину, переквалифицировалась в «сопроматчицу», чтобы быть поближе к своему предмету. Им обоим было, наверное, слегка за 45. Тогда нам казалось, что они оба уже безнадежные старики, и их любовь может существовать только в виде воспоминаний. К счастью, эта симпатичная пара у меня сохранилась на снимке. Корреспондент молодежной газеты давал обзор экзаменов в вузах Киева. Я уже сдал экзамен и уходил, но настырный «папарацци» вернул все «в обратный зад» и сделал снимок. В газету он не попал, а мой экземпляр со временем потемнел и пошел пятнами. Хорошо, что компьютер знает, как можно немного исправить такие фото.
Так вот именно с Марией Матвеевной у нас все пошло «в раздрай». На дом она задавала решать задачки из сборника. Мы с Колей Леиным их решали шутя, используя высшую математику, что позволяло решить задачу в одну строчку. При проверке ММ объявила нам обоим свое «фе»: дескать, мы бессовестные халтурщики. Мы защищались, возражая, что получили правильный ответ. Она заявляет, что ответ мы просто списали. Коля или я заводимся, выходим к доске и начинаем объяснять логику нашего решения задачи. Она нас не понимает, остается при своем мнении. Для меня отношения еще более усугубляются из-за моей дурацкой привычки делать не так, как все.
Начальная классическая задача для неофитов сопромата - расчет крюка, который на картинке является точной копией жирного вопросительного знака, поставленного вверх ногами. Обычно расчет пишется в тонкой тетрадке, а сам крюк чертят на листке А4 ватмана. Я же сложил вдвое формат А3 чертежного полуватмана и сделал буклет, где на второй странице начертил крюк, а на третьей и четвертой страницах - все формулы и расчеты. На титульной первой странице я написал все исходные данные - как на обложке книги. Страницу заключил в простенькие рамочки - толстую и тонкую; тонкая была чуть выше, зато толстая - чуть шире. Все было написано тушью и получилось очень мило. Мои изыски увидела Поля Трахт и быстренько свою работу оформила точно так же. У нее узрел кто-то еще. Дальше моя фирменная рамочка и стиль распространились как лесной пожар. От оформления первой сданной работы наша Мария была в восторге, чем поделилась с профессором Белянкиным. Когда стиль стал повторяться в других работах, Машины восторги стали уменьшаться. Моя работа использовалась в качестве «козы» и мне пришлось сдавать ее последним. Тут уже бывшая балерина не выдержала, и выдала будущему инженеру все, что она думает о рабском копировании и несамостоятельности некоторых молодых. Я не стал возражать ни одним словом: наши мнения совпадали.
Зато с задачами, которые ставали все сложнее, положение наладилось после одного случая. Наша Маша не знала, как решить одну задачу и мы с Колей Леиным пришли ей на помощь. И тут стали понятными причины наших разногласий: бедная женщина вообще не могла решать такие задачи, она просто помнила решение всех задач наизусть. Любое необычное решение, конечно же, казалось ей неправильным. Наша жалость к ней была густо разбавлена восхищением. Это же надо было взвалить на себя такую каторгу: балерине, ради любви, учить наизусть задачи по сопромату! Задачи ставали все сложнее, требовали все большего знания высшей математики, и наша Маша в тяжелые моменты часто останавливала вопрошающий взор на мне или Коле. Мы деликатно-благородно помогали, начиная словами: «Мне кажется, что здесь проще применить…». Применяли, получалось, шли дальше. Вопрос о подтасовке ответов отпал навсегда.
В числе немногих книг, которые я взял с собой после окончания института, у меня остался малоформатный справочник по прочности различных материалов, моментах инерции распространенных прокатных изделий и основными формулами по сопромату. Это были самые востребованные сведения в течение ряда лет, справочник я всегда возил с собой. Книжку у меня подло увели, и приходилось обращаться к толстым фолиантам, которые не возьмешь с собой в командировку. Теперь, правда, и командировок уже нет, и все данные можно скачать из Интернета, но книжечку жалко, как старого верного друга. Может, кто увидит ее? На первой странице там красуется надпись Сереги Бережницкого: «Книга сия принадлежит Майку»...
Металлы можно давить.
Появился в расписании у нас предмет «обработка металлов давлением». Преподаватель сей науки, видно раньше работал в ПТУ, да так и остался на этом уровне. Он суконным языком и с надутыми щеками важно и многословно изрекал нам общеизвестные истины типа «сіно, солома, - це все буде для худоби». Были бы какие-нибудь практические занятия, на которых можно было бы что-нибудь «подавить», - другое дело. Уже на второй лекции стало понятно, что терять драгоценное время на третью и последующие - не стоит. В расписании для многих, для которых программа ПТУ не являлась глубокой мудростью, появилось «окно». Времени всегда не хватало на самое необходимое, и лишнее «окно» слегка ослабляло этот дефицит.
Приблизилась зачетная сессия. Среди множества зачетов, был и этот - по давлению на бедные металлы. Вооруженный технической мудростью, приобретенной на родном сахарном заводе, я налегке отправился сдавать этот зачет. Пришел и увидел жуткую картину: половина группы гудела в коридоре. Зачет они не сдали, а «сдались» сами. Наш «петэушник» проявил норов: прямо при входе стал требовать конспекты своих «золотых» лекций! Таковые были только в единичных экземплярах. Кое-кто пытался использовать чужие конспекты, уже предъявленные настоящим владельцем, но был немедленно разоблачен. Оказывается, наш «давитель» при просмотре своих банальностей, увековеченных на бумаге, делал незаметные пометки. Все остолбенели и не знали, что можно предпринять. Смотрели на меня: к тому времени я оказался «генсеком» факультетского комсомола. Почесав репу, я двинул в аудиторию.
- Где ваш конспект? - ответил вопросом на мое «здрасьте» наш давитель, увидев мои пустые руки.
- Я не пишу конспектов, - холодно ответил я. Давитель чуть не присел от такой наглости. Немного попереживал молча, затем все же сообразил, что написание конспекта не является священным долгом студента.
- Берите билет, - нехотя процедил он, очевидно надеясь расправиться со мной врукопашную. Этот «петэушник» заготовил билеты и устраивал нам настоящий экзамен!
Билет я взял и начал готовиться. Пустячные вопросы о прочности и пластичности металлов были общеизвестны. Последний вопрос: «Технология штамповки шайб из листа» заставил задуматься. Я ни разу не видел, как штампуют шайбы, но из пролетарского прошлого знал, что штампуют отвратительно: дырка редко находилась точно посредине. Я начал соображать, как можно вырубить эти шайбы, чтобы все было точно. Минут за 5 придумал, нарисовал, двинулся отвечать. Кое-что рассказал нашему «давильщику» из жизни металлов, чего он, очевидно, не знал, судя по выражению бесцветных глаз на таком же лице. Вдруг он перестал слушать и начал жадно разглядывать мой эскиз штампа.
- Это устройство работать не будет, - радостно сообщил он мне.
- Как это не будет? - возмутился я. - Вот этот пуансон вырубает отверстие. При дальнейшем движении штампа матрица обрубает края шайбы. Вот эта пружина при обратном ходе выталкивает готовую шайбу.
Столп штамповочного производства уткнулся в мой эскиз. Действительно: все работало очень эффектно.
- А где вы видели такой штамп?
- У нас на заводе, - малодушно слукавил я.
- Я вам давал технологию двойного штампования, по которой вырубка происходит за две операции…
- Я знаю, - окончательно обнаглел я. - Но там дырка, т. е. отверстие, не всегда получается в центре, - вспомнил я мучения с кривыми шайбами.
- А можно взять у Вас этот эскиз? - робея, попросило светило давления на металлы.
Моему великодушию не было предела: я разрешил ему сделать это, забирая зачетку, в которой он тщательно вывел слово «зачтено». В коридоре я обратился к массам трудящихся студентов, изображающих вопросительный знак. «Не давайте ему никаких конспектов! Вы не конспектируете всякую чушь, не позволяйте ему требовать этого!». Повеселевший народ уразумел и дружно двинулся сдавать не сдаваясь. Я же по чужому конспекту стал изучать, как по науке надо штамповать проклятые шайбы. Сначала лист надо было разрезать на полосы, значительно шире будущей шайбы. Затем полоса рывками должна подаваться под штамп с двумя пуансонами: первый вырубал дырку, второй - наружные контуры. Центровка отверстия зависела от шага рывка, который просто не мог быть точным. Я мог бы даже сосчитать погрешность по полюбившейся на физике теории ошибок. Мой штамп принципиально не мог делать брак. Кроме того, он вырубал шайбы сразу из целого листа в любом месте…
Ностальгически бодрый взгляд из будущего, которое теперь стало прошлым. Лаборатории, которой я командовал, было поручено изготовить несколько тысяч медных шайб: завод заломил за них непомерную цену и потребовал большие сроки на изготовление штампа. Пришлось вспомнить свое студенческое «ноу-хау». Через несколько дней заказ был готов. Мой самодельный штампик забрали на завод, и он там долго и скромно вырубал точные шайбы.
Мазут для котельных перед употреблением приходится разогревать, поэтому на стальных резервуарах сооружается «шуба» из шлаковаты. Чтобы шубу не разметали ветры, снаружи сооружают фактически еще один резервуар из листов оцинкованного кровельного железа, соединяемых самонарезающими шурупчиками. Конструкция хлипкая и ненадежная, а работа муторная, особенно зимой, особенно на высоте.
Мы изобрели новую, быстро монтируемую и прочную, конструкцию теплоизоляции. Монтаж ставал делом веселым и быстрым. На стальных уголках вырубались специальные лепестки и штыри, которые отгибались перед монтажом и задавали толщину изоляции. Уголки этими штырями вертикально приваривались к корпусу резервуара. На маленькие острые лепестки, отогнутые в другую сторону, накалывались и крепились специальными стопорными шайбами оцинкованные листы наружной обшивки. В зазор между корпусом резервуара и обшивкой закладывалась шлаковата.
Для работы по такой быстрой технологии нужны были тысячи метров стального уголка с надрубленными штырями и отогнутыми лепестками. Профи штамповочного производства на заводе требовали для этого два отдельных штампа, что само собой также в два раза увеличивало трудоемкость изготовления уголков. Пришлось тряхнуть стариной и изобрести простейший штамп, выполнявший все сразу. Воистину, - ничто на земле не проходит бесследно.
Попытался сейчас вспомнить в деталях устройство этих штампов - и не смог. Наверное, после нескольких часов (или дней?) работы я бы повторил конструкцию, изобретенную в молодости шутя за несколько минут, но только потому, что твердо знаю, что она была. С удивлением рассматриваю свои рабочие тетради с многоэтажными формулами. Неужели это все делал я? Видно к старости убывают не только физические силы, но и усыхают мозги. В сухом остатке должна остаться мудрость. Ау, где ты???
Самим же способом обработки металлов давлением я иногда просто восхищаюсь. Пример: алюминиевая банка для пива и других напитков. Это высокоточное изделие, венец инженерного искусства, - глубокая вытяжка металла, толщиной с папиросную бумажку. Механизм открывания банки, доступный даже ребенку, требует микронной точности при штамповке будущего места открывания, и это при много миллиардных количествах экземпляров. Очень хотелось бы также узнать, как изготовляется коническое сужение банки: штамп ведь оттуда нельзя вынуть…
Детали машин и нашей жизни.
Детали машин - очень важная наука для любого инженера, а не только инженера - механика. Она дает ключ к пониманию любых механизмов, которые всегда состоят из деталей, и которых все больше появляется в нашей жизни. Ну, например, - автомобиль. Чем отличается старый автомобиль от нового? Большинство сразу подумает о поврежденном бампере, ободранной краске, разбитых подфарниках, проржавевших крыльях. Все так, но это не главное. В старом автомобиле нарушены (обычно - увеличены) допуски и посадки сопрягаемых деталей. Вырастают зазоры в подшипниках, изношенные поршни и клапаны пропускают газы, болтаются рулевые тяги, невесело гудят шестерни коробки передач и гремит крестовина кардана. Это и есть главная причина старости. Как у человека. Не оттого старый, что лицо морщинистое, а оттого, что износилось великое множество мелких взаимодействующих деталей.
Мы можем подлечить машину, заменив некоторые узлы. Но эти узлы и детали должны быть взаимозаменяемы, то есть, изготовлены с нужной точностью и допусками. Бесчисленные резьбы, винтики – гаечки, тоже должны подходить к нужным деталям. Общая наука всех этих подробностей - детали машин. В науку, кроме технических подробностей, входит также идеология всех устройств в целом, чтобы за отдельными деревьями можно было увидеть лес.
Курс деталей машин нашему потоку читал профессор Сахненко, личность яркая и неординарная даже для КПИ. Говорил он в нос довольно противным и гнусавым голосом, что позволяло легко его копировать даже начинающим Галкиным. Но, что говорил!
- Здесь нужен зазор - что нибудь -два - двадцать миллиметров (??!! - ничего себе колебания!). На стягивающий болт надо установить гайку и контргайку. Все малограмотные недоросли, вроде вас, устанавливают контргайку вдвое тоньше гайки, хотя если напрячь ваш орган мышления и вспомнить эпюры нагрузок резьбы, то становится понятно, что все надо делать наоборот. Нагрузки - знакопеременные, поэтому под гайку надо поставить упругую шайбу…
- Шайбу Гровера, - бурчу тихонько про себя, сидя ряду в десятом. Непостижимым образом Сахненко услышал мое бурчание, и разражается тирадой:
- Гровера, Гровера… А может эту шайбу изобрел Максим Козолупов? Лично я постеснялся бы ставить свою фамилию под таким пустяковым изобретением…
Горестное отступление. Тирада Сахненко имеет глубокие политические корни. Уже несколько лет мы боремся с «низкопоклонством» перед Западом на тему «Россия - родина слонов». Откапываются старинные папирусы, которые неизменно доказывают, что все было придумано и изобретено у нас, в России, читай - в СССР. Во всех технических вузах учреждены кафедры истории техники, ее речистые профессионалы пишут и защищают «на ура» пухлые диссертации на эту тему. Пробуждение национального самосознания - полезное дело. Беда в том, что мы всегда действуем по гениальному рецепту великого Мао Цзе Дуна: «Чтобы выпрямить палку, ее надо перегнуть». Перегибаем так рьяно, что народ отвечает смехом и массой анекдотов, соответственно кампания достигает цели «с точностью до наоборот». Особенно следует сказать о «борьбе с низкопоклонством». Мы клеймим позором «буржуазную лженауку», «продажную девку империализма» - кибернетику. Спустя пару десятилетий с удивлением обнаружим, что весь мир говорит на английском и работает на американских компьютерах с японскими дисплеями и принтерами. Удивительное состоит в том, что грядущие исследователи, действительно обнаружат ранние прозрения отечественных ученых и Кулибиных по этой тематике. Просто их очень своевременно затюкали, заклеймили, не дали ходу, а некоторых даже осудили за что-нибудь банальное. Вчера прочитал в «Аргументах и Фактах», что изобретателя перфторана - «голубой крови», молодого профессора Феликса Белоярцева, обвинили в воровстве спирта и довели до самоубийства еще в конце 70-х годов уже прошлого века. Американцы, затратив много денег, до сих пор не могут синтезировать этот чрезвычайно важный заменитель крови, и их дипломаты флакончиками вывозят из России драгоценный продукт. Сам же продукт производится у нас полуподпольно, в мизерных количествах, хотя мог бы обогатить Россию не меньше, чем Бил Гейтс Америку. В конце концов, Америка сделает свою «голубую кровь» - были бы деньги, - и опять завоюет ею весь мир. Так уже было с лазерами, космосом и еще кое с чем. За державу, понимаешь, обидно…
Первый курсовой проект по деталям машин - редуктор; чтобы его рассчитать и вычертить, надо знать уже очень много. Тем не менее, приходится не вылезать из справочников по нормалям. Скажем, по расчету вал получается диаметром 53,5 мм. Такие валы в природе не бывают: ни один подшипник к ним не подойдет. Надо знать ГОСТы и нормали с рядами чисел и выбрать ближайший диаметр. Готовый редуктор вычерчивается в масштабе, с разрезами, в нескольких проекциях. Некоторые вычерчивают его в аксонометрии с вырезанной четвертинкой. В аудитории кафедры деталей машин висят сделанные студентами безупречные аксонометрические (пространственные) чертежи сложнейших устройств в разрезе, рядом с которыми всемирно знаменитый «Черный квадрат» Малевича покажется забавой, выполненной дитем, сидящим на горшке.
Абстрактное и совершенно дилетантское отступление на тему живописи, музыки и даже скульптуры. Кстати, на мой взгляд, если уже наделять мистическим смыслом нарисованный абсурд, то лучше брать картины Сальвадора Дали: они, по крайней мере, имеют безукоризненно изображенные детали, указывающие, что их изготовитель владеет мастерством художника, а не только разметчика квадратов. При этом я не считаю себя совершенно чуждым абстрактному искусству: я понимаю «Поэму экстаза» Скрябина, кошмарный хаос «Герники» Пикассо, иррационально тупую тяжесть и боль памятника жертвам Хиросимы, «чрезвычайную» моральную устойчивость коня и всадника Александра III работы Паоло Трубецкого. (В характеристиках наших времен люди делились на морально устойчивых, морально устойчивых чрезвычайно, и морально подвижных).
В Киеве, в году примерно 1951-м, состоялась выставка современных художников, куда мы забрели совершенно случайно. Среди всяких разных картин, одна меня просто поразила. Это была картина Лактионова, кажется, она называлась «Новая квартира». Сюжет там был банально-парадный. В новую квартиру, из окон которой просматривались, кажется, московские высотки, въезжала семья в составе матери, дочки, мальчика и Шарика. В руках у семьи был фикус, портрет Сталина и еще что-то. На всех лицах, в том числе собачьем, выражение восторга. (Это был «сталинский» дом; восторг новоселов легко поймут новоселы последующих «хрущевок»). Сюжет, каких тогда были тысячи. Поражало другое – техника живописи. Все детали были выписаны так точно и подробно, что казались стереоскопическим снимком с большим разрешением. Детали хотелось рассматривать в лупу, чтобы увидеть еще больше… Я знаю эффект картин импрессионистов: если отойти и посмотреть одним глазом через дырку в кулаке, то картина становится стереоскопической и насыщенной воздухом. В картине Лактионова этот эффект был виден невооруженным взглядом без всяких ухищрений и с любого расстояния. Возле картины толпился, восхищался и спорил народ, наскоро пробегая возле полотен маститых и заслуженных. В книге отзывов большинство их было посвящено именно этой картине. Некоторые отзывы были очень резкие: Лактионова обвиняли в «фотографичности» (никто тогда не обвинил его в «лакировке действительности», что было очевидно). Подавляющее большинство зрителей просто разными словами восхищались картиной. Восторженный учитель из Николаева объявил картину лучшей, из созданных когда-либо человечеством!
Изложил свое непросвещенное мнение на сих скрижалях и я, дилетант. Я считал, что тщательная проработка деталей в проекте не может затемнить смысла проекта, если он там есть. А те, которые пишут крупными мазками, возможно, просто не умеют так прорисовывать детали, или боятся трудоемкости этого процесса. Конечно, нарисовать линейкой черный квадрат – гораздо проще. Возможно, автор квадрата проделал титанический умственный труд, прежде чем взяться за линейку, но результат меня не впечатляет до сих пор.
Сейчас, в 21 веке, у меня есть знакомый скульптор, который в бронзе изображает любовь женщины и всякие страсти-мордасти в виде изогнутых торсов и ног. Отливают бронзу ему очень скверно, и я завариваю десятки раковин на отливках, заодно постигая тайны искусства. Заваривая химеру из двух сиамских торсов, я задал художнику невинный вопрос:
– Саша, почему ты отливаешь только торсы без головы и только начала рук и ног? (Этим словом я деликатно постарался заменить точное слово «обрубки»).
– Н. Т., это же страшно медленное и трудоемкое дело. И не всегда получается… Вы ведь знаете, что никто не смог приделать руки Венере Милосской…
Точнее было бы сказать: всегда не получается… Я уже сотрудничал с «отливщиками скульптур» – назовем их так. В пору первоначального накопления капитала в наше веселое время, эти ребята брали из музеев (Эрмитажа и Русского) миниатюрные скульптурки дев, удерживающих подсвечники в виде факелов, или кувшины с истекающей водой, и, непростым методом выплавляемой восковой модели, отливали по ним крупными сериями аналоги, которые продавали. Я исправлял дефекты литья на этих «аналогах» и хорошо с ними познакомился. На бесподобно изящных подлинниках драгоценные застежки удерживали невесомые прозрачные накидки, драпирующие живое теплое тело, тонкие черты лица показывали радость или смирение. На новоделах-копиях все детали точно соответствовали подлиннику. Отсутствовал один пустяк: жизнь.
А вот черных квадратов можно изготовить миллион абсолютно идентичных: достаточно точно замерить размеры, подобрать холст и краску, потому что: значение подлинника – иллюзорно, и сохраняется в нашем сознании, только благодаря разъяснениям «знатоков искусства». Кстати, черный круг был бы еще более таинственным: в нем вообще не за что уцепиться, поэтому объяснить можно все…
С Колей Леиным мы свои редукторы делали параллельно. Казавшееся сначала чрезвычайно сложным задание, во второй раз выглядит простым и понятным. Если быстро считать и чертить, то работу можно сделать за один вечер. Я уже писал, что второй и третий редуктор мы проектировали «на сторону», чтобы заработать…Проект одного редуктора стоил 60 рублей, что по тем временам было весьма приличной суммой.
Еще одно неуместное отступление. Прочитал недавно статью в газете о том, что у нас процветает несколько фирм, открыто рекламирующих свои услуги: написать курсовую работу, дипломный проект, кандидатскую и докторскую диссертации в любых отраслях науки. Их деятельность вполне легальна: эти «услуги» называются консультациями, оказывать которые не возбраняется никому. Яйцеголовые, в поисках дополнительных заработков, плодят серость и невежество с отличными «бумагами». Наши трудовые заработки на этом фоне выглядят детскими, причем - для детей ясельного возраста…
Вторым курсовым проектом была фрикционная муфта. Мне в задании был записан такой большой крутящий момент, что муфта по расчету получалась просто огромной. Чтобы ее уменьшить я применил коническую поверхность и выжимной механизм с центральной пружиной. Мой преподаватель Гончаренко не принял мои изыски супротив канонических, раз навсегда заведенных, образцов. Поскольку я сопротивлялся, то на защиту проекта он меня направил к самому Сахненко. Сахненко молча и долго рассматривал мой проект. Мне показалось, что муфта ему понравилась своей компактностью и мощью.
- Цилиндрические пружины очень плохо работают на скручивание, - он сразу нашел «болевую» точку моего проекта.
- Но я здесь поставил упорный шарикоподшипник, и передаваемый момент будет составлять всего …, - я показал ему число в расчетах.
- Смотрите, он еще и соображает, - иронично протянул Сахненко и вывел мне «отлично» в зачетной книжке. Инцидент был исчерпан, мои новации получили высочайшее одобрение, а конические муфты были узаконены в учебных заданиях кафедры.
Упругое отступление. Что касается пружин, - Сахненко был прав: это самое уязвимое место фрикционных муфт. В современных автомобилях на муфтах сцепления установлены специальные лепестковые пружины. Недавно в моих гарантийных «Жигулях» стала «вести», т. е. не выключаться полностью, муфта сцепления. Пружина была плохо закалена и часть ее лепестков прогнулась. Муфту на гарантийной машине бесплатно мне не поменяли, но это уже другая песня о «свинцовых мерзостях нашей жизни»…
При работе с курсовыми проектами я убедился в великой пользе вычерчивания в масштабе любых более-менее сложных механизмов. Глаз немедленно «усекает» ошибку в расчетах: эта шестерня слишком широка, этот вал совсем рахитичный. Повторный расчет всегда обнаруживает правоту именно глаза. Конечно, не надо забывать, что глаз помещается непосредственно в голове…
Детали машин и техническое черчение, - несомненно, очень нужные в жизни инженерные науки. Наблюдая, как мучаются с эскизами деталей, которые надо сделать, выпускники других технических вузов, я понял, как хорошо учили нас в КПИ. В 70-е годы мы в лаборатории построили и ввели в эксплуатацию сложную машину по фасонной плазменной резке труб. В машине было много точных механических узлов: синусные механизмы, зубчатые передачи с переменными передаточными числами и т. п. Все это мы изготовляли сами на токарных и фрезерных станках, причем - не самых точных. На кульманах прорабатывалась только общая компоновка машины. Рабочие чертежи в виде эскизов со всеми разрезами, размерами и допусками я выдавал десятками в начале рабочего дня, чтобы станки начинали вертеться немедленно. Когда инженер берет в руки линейку, чтобы нарисовать хилые и непонятные никому эскиз или схему, требующие еще пояснений и рассказов, - я понимаю, что он не совсем инженер, или - совсем не инженер. Чертеж - язык инженера; если не можешь говорить скороговоркой, то говори, по крайней мере, членораздельно.
Изучали мы еще и близкую к деталям машин науку - теорию машин и механизмов - ТММ. Студенческий фольклор расшифровывает эту аббревиатуру по-своему: «тут моя могила». Наука тоже интересная, я даже делал по ней специальный реферат «Синтез механизмов по Чебышеву». Пафнутий Львович Чебышев (1821 - 1894) - выдающийся и разносторонний математик и механик, много работавший в теории механизмов.
По заданным формулам движения мы строили кулачковые профили и разные шарнирные механизмы, что мне весьма пригодилось при создании машины для фасонной резки. С точки зрения математики и ТММ, моя машина представляла собой устройство для одновременного решения трех тригонометрических уравнений с одним аргументом - углом поворота трубы. Все коэффициенты уравнений (для разных диаметров труб и видов работ) легко задавались предварительной настройкой.
ТММ запомнилась своим преподавателем по фамилии Кореняка (или - Кореняко). Этот профессор по внешнему виду - вылитая копия сельского «дядька», замученного сельскохозяйственными работами и обремененного многочисленной семьей. Короткие седые волосы, насупленный взгляд из-под кустистых бровей, который всегда смотрел куда-то мимо собеседника. Одежда - не то чтобы старая, но очень долго используемая. В начале лекции Кореняка проходил к «амвону», бурчал нечто очень напоминающее «здравствуйте», и поворачивался лицом к доске, - соответственно спиной к аудитории, заполненной своими верными учениками. Из кармана извлекалась некая веревочка, при помощи которой на доске возникала первая окружность безукоризненных очертаний.
По студенческим преданиям этой веревочкой был обыкновенный «батіг» - короткий кнут для поощрения лошади ее водителем. Якобы сразу после войны Кореняка приезжал в институт на повозке, распрягал лошадь и. стреножив ее, отпускал с миром в институтские клумбы, а «батіг» использовал как циркуль. Фольклор - трудно проверить. Таинственную веревочку – циркуль – тоже невозможно исследовать: Кореняка сразу прячет ее в карман.
Когда все необходимые окружности на доске нарисованы, Кореняка разворачивается и, не поднимая глаз, довольно отчетливо начинает бубнить «материал» о высших и низших кинематических парах и шарнирных механизмах. Мы скрипим перьями, записывая идеи и рисуя эскизы. Вдруг в тишине аудитории раздается вопрос:
- Какие еще «ниЩие пары»?
- Не нищие пары, а низшие пары, - бурчит с амвона Кореняка, продолжая лекцию. В его произношении «нищие» и «низшие» - звучат совершенно одинаково.
В конце лекции – ответы на вопросы, заданные в записках.
- Тут у меня вопрос: «Ложка - это механизм или машина?». Ну, что это за вопрос. Это, наверное, шутка, - Кореняка откладывает записку и, не поднимая глаз, начинает читать следующую. Народ - веселится...
У нас масса лабораторных занятий и курсовых проектов по общеинженерным дисциплинам, по которым надо писать и чертить отчеты, рефераты, эскизы, переводить с иностранного «тысячи» технического текста. Химия, металловедение, обработка металлов резанием, литейное дело, техническое рисование, техника безопасности, организация производства, - всего и не упомнишь. Особенно большие затраты времени на занятиях по военному делу и основной специальности - сварке, о которых я надеюсь еще написать. А еще ведь есть хобби, самодеятельность, кино, книги, баня, праздники, общественные нагрузки и еще тысяча дел «не учтенных ценником», как пишут в финансовых расчетах. Рабочий день и значительная часть ночи заполнены до краев. Но мы молоды, сил у нас - не меряно. Кроме того, мы уже умеем работать быстро и продуктивно. Возможно, сейчас уже выветрилось умение титровать химические растворы, но осталось знание, что это можно сделать, осталось умение справляться с огромным количеством неотложных и разнообразных дел. Учили нас хорошо, - и качеством, и количеством. Количеством – также закаляли…
Что касается количества, то нельзя забыть еще об основах марксизма-ленинизма. Эта дисциплина, – как священная корова, огромные аппетиты которой были вне критики, пожирала наше время без всякой меры. Который уже раз мы конспектировали «первоисточники», который раз - «Краткий курс истории ВКП(б)». Бесконечные рефераты, коллоквиумы, разборки на всех уровнях отстающих и прогулявших, - эта суета должна была из нас воспитать чрезвычайно стойких борцов за дело партии. К счастью, большинство наших преподавателей ОМЛ были людьми весьма образованными, поэтому на лекциях мы узнавали массу интересных подробностей «не для печати». Особенно нам нравились живые и насыщенные лекции Беникова. Почему-то его от нас забрали (убрали?) и вместо него лекции стал читать некий товарищ Барсук, человек то ли ограниченный, то ли зажатый своей собственной «идеологической выдержанностью». Народ откровенно зевал на его пресной размеренной лекции, кляня себя за то, что не прихватил на двухчасовую скуку интересную книгу, или хотя бы завтрашний отчет по лабораторной работе.
Перед концом лекции на стол лектору легли несколько десятков бумажек, - вопросов в письменном виде. Лектор оживился, глядя на нашу активность. Когда же он начал читать вопросы, его толстомясое лицо все удлинялось, а курчавые рыжие волосы - выпрямлялись, - все вопросы были на одну тему: куда ушел Беников, когда вернется Беников, почему от нас забрали Беникова. Вспотевший лектор зачитывал однообразные записки, страдая и пытаясь хоть что-нибудь ответить каждому. Под конец чтения записок он, чуть не плача, только мог произносить: «О Беникове я уже сказал», «Я уже говорил, что неизвестно, когда вернется Беников…». И вдруг он ожил, читая последнюю записку: «Когда у нас будет читать лекции товарищ Барсук?». Бесконечно умиленный вопросом, со слезами на глазах, он поднялся на кафедру, приложил руки к груди и проникновенно произнес: «Я - БАРСУК!!!»
Овладевшая обществом буйная «ржачка» выработала в наших организмах столько витаминов, что вред от унылых лекций тов. Барсука был нейтрализован на семестр вперед…
Позже лекции по ОМЛ нам стал читать статный бывший офицер (а может быть, - даже генерал) без одной руки. Он часто обращался к повседневной реальности нашего бытия, и его высказывания были непривычно резки для наших напуганных ушей. В частности, он получил жилье в одном из новых домов, выстроенных на высокой стороне Крещатика напротив Прорезной улицы, то есть - в самом престижном месте украинской столицы. Стиль архитектуры этих домов я не могу определить: ранее не видел ничего подобного. По внешнему виду они больше всего напоминали несколько тортов кремового цвета с розочками и башенками из красноватой керамики, обильно налепленных на арках, выступающих частях фасада и лицевой части крыши. Сатирический журнал «Перец» откликнулся картинкой пана Возного из «Наталки Полтавки», который, задрав голову, удивленно рассматривает новые дома и произносит хорошо известный мне монолог: «Ежелі б я імєл столько язиков, скільки артікулов у Статуті, или скільки запятих в Магдебургськім Праві, то і сих не довліло би на восхваленіє ліпоти твоєї…». Тем не менее, это была всенародная стройка: Крещатик после войны отстраивала вся Украина. Наш доблестный Павло Тычина по этому поводу разразился целой поэмой: «Ой, сестричко, любий братику, попрацюємо на Хрещатику!». Вот в таком прославленном доме получил жилье наш бывший офицер. От него мы и узнали, что, прибивая на стенку картину, он пробил дыру в соседнюю квартиру из другого подъезда, что звуки пианино на шестом этаже слышит весь многоэтажный дом…
Воюем…
Нас, студентов КПИ, не призывают на срочную военную службу. За время учебы в институте механики, сварщики и студенты еще некоторых факультетов должны стать младшими инженер-лейтенантами автотракторной службы. Особые специальности у радистов и химиков: их должны глубоко засекретить. Мы будем в запасе, пока наша жизнь не понадобится Родине. Тогда нас оденут в шинели, дадут красивые фуражки и бросят в бой. Туда мы будем ехать на автомобиле, на котором будет масса полезных вещей: патроны, снаряды и гранаты. Еще мы будем тащить полевые кухни, свято чтя завет Швейка, что главное в бою - не отрываться от полковой кухни.
В ожидании этих времен мы изучаем автомобиль и Правила Уличного движения (ПУД). Эти ПУДы были различными для Киева и Киевской области, для Ленинграда и области и т. д. Автомобилизация тогда еще не приобрела такого угрожающего всему живому характера, машин было мало, и ездили они недалеко. Например, вспоминаю часто нашего майора Смирнова, который обучал нас этому ПУДу (ПУДе? ПУДам?). Когда к нерегулируемому перекрестку подъезжают одновременно две машины, - разъясняет майор, - то первой проезжает машина, которая не имеет помех справа. В вопросах мы усложняем ситуацию: одновременно подъезжают три машины. Майор недовольно морщится, но разруливает и эту небывалую ситуацию. «Ну, а если четыре машины?», - не унимаемся мы. «Не занимайтесь схоластикой!», - величественно прекращает вопросы наш майор.
(Что бы сказал бравый майор, увидев перекресток, где с четырех сторон, в несколько рядов, - в том числе - по тротуарам, одновременно подъезжают сотни машин? Перекресток просто парализуется; если даже светофор работает, то подчиняться ему - глубоко бесполезное занятие: двинуться просто некуда).
Водить автомобиль мы учимся на стареньком грузовичке - «полуторке» ГАЗ-ММ по обледенелым и узким дорогам пригородов, которые совсем рядом с нашими общежитиями. Коробка передач этого чуда техники не имеет никаких буржуазных синхронизаторов и требует к себе прямо таки королевского обращения. Если тонкими приемами «задержка», «перегазовка», «двойная перегазовка» не удается сравнять скорости соединяемых внутри коробки шестеренок, то они отвечают ужасным скрежетом. Примерно такими же звуками реагирует инструктор. При попытке водителя увеличить скорость, движок отвечает детонационным клекотом; инструктор яростно вопит: «Газ!». Этот крик требует вовсе не добавления газа и прорыва в гиперзвук, а совсем наоборот - уменьшения газа. Тогда клекот детонации в двигателе переходит в обычное натужное урчание. Иногда комментарии инструктора нестандартны: «Куда прешь??? Надень очки!!!». Только однажды инструктор после этого был крайне удивлен: Леня Хлавнович действительно добыл в кармане и надел очки…
В результате обучения в марте 1953 года нам выдают довольно бесполезное удостоверение «шофера – аматора» (любителя) с двумя талонами предупреждений. «Аматор» не имеет права водить тяжелые грузовики и тягачи, которыми мы должны командовать на войне. Серенькую книжечку я вожу с собой, как память о студенческой молодости. Неожиданно в 1959 году она стает для меня главным документом: мы приобрели свой автомобиль! Года через три у меня в Ленинграде изымают первый талон предупреждений, иссеченный компостерами гаишников, как автоматной очередью, за многочисленные нарушения. Об этом торжественно сообщают Киевской ГАИ. Я думаю, они там все попадали от удивления моей десятилетней стойкостью…
Все военно-автомобильные страдания были потом - после четвертого курса института; здесь я их привел, чтобы были понятными наши маневры «до того». После второго курса нам предстояло сначала усвоить нелегкую науку пехотного сержанта.
В одно прекрасное утро после второго курса несколько сотен студентов загрузились в теплушки. Спустя несколько часов мы оказались на танкодроме, находящемся, как нам объяснили, недалеко от Белой Церкви. Обширное песчаное пространство, изрытое окопами и гусеницами, содержало также заросли кустов и небольшие рощицы. Безымянная речушка протекала в километре от нашего «бивака». Вдоль линейки построения стоял ряд палаток. Была жара, поэтому стенки палаток были свернуты. Палатка в таком виде - просто квадратный гриб цвета хаки, ножка которого вырастает в квадратной же ямке. Площадь ямки - наша жилплощадь. Вокруг центра по периметру ямки устроена обшитая досками ступенька шириной около двух метров и глубиной от поверхности земли около полуметра. Это наше ложе. С одной стороны ложе прорезано ступеньками лестницы, соединяющей ямку жилплощади с поверхностью земли. Капитальными сооружениями в нашем городке были штаб, туалет и столовая.
Для начала нам выдали военное обмундирование: подлатанные и свежеокрашенные гимнастерки с погонами без просветов, «кривые штаны», изобретенные французским генералом Галифе, «теплые» ремни из материала пожарных шлангов и пилотки со звездочками. Обувь можно было выбирать по вкусу: «кирзачи», снабжаемые портянками, или армейские ботинки, к которым полагались длинные серые ленты обмоток. Наш бывалый вояка Миша Шовкопляс уговаривал нас выбрать именно обмотки, в которых ногам легче бегать, но большинство предпочло сапоги, и Мише пришлось примкнуть к большинству.
Длинные узкие мешки назывались матрацами. У стога, под неусыпным надзором старшины, мы их набили соломой до состояния палки твердокопченой колбасы. Тринадцать палок, обвернутых простынями и плотно уложенных на доски ступеньки, вместе с ватными подушками и байковыми одеялами, образовали нашу коллективную берлогу на одно отделение вместе с командиром. Когда все попробовали улечься на свои «колбасы» матрацев, до боли понятным стало выражение прыгунов в воду: «прыгать солдатиком». Лежать вместе мы могли только именно в такой позе, причем руки желательно было убрать на дощатый бордюр изголовья. Совсем несладко было отделению, в котором «служил» Мауэр: он не мог поместиться даже на двух матрацах.
Первый день прошел быстро. Отбой в 22часа никого не усыпил, под квадратами палаток еще долго раздавался приглушенные взрывы смеха. Команда «ПОДЪЕМ!!!» ровно в 6-00 застала всех врасплох. Солнце уже ярко светило. Наши командиры стояли уже одетыми возле палаток. Требовалось надеть только сапоги и бежать на построение. Быстро, по взводам началась зарядка. В течение 15 минут мы с бешеной скоростью делаем знаменитый 16-тактовый комплекс упражнений, затем хватаем мыло, зубные щетки и полотенца и бегом, но строем, несемся к дальней речушке. Народ уже раскалился, хотя проснулся еще не совсем. Умываемся, обливаемся, вытираемся, бежим в обратный зад. Одеваемся, строимся. Подъем флага, объяснение задач. Расходимся за ложками. Строимся, идем в столовую, завтракаем перловой кашей, хлебом с маслом и чаем. Перекур, построение. Получаем оружие и саперные лопатки, строимся, выходим на перелески песчаного танкодрома.
Наш командир, старший лейтенант ставит задачу. Мы с боем должны захватить опорный пункт противника, расположенный на расстоянии около километра в небольшой роще. Оттуда стреляют, пока условно. Движемся рассредоточено, согласно новому БУПу - Боевому Уставу пехоты, каждая буковка которого густо полита кровью необученных бойцов и неграмотных командиров. Броски в полный рост, - только если позволяют складки местности и противник нас не видит. Основной метод передвижения - попеременное переползание, когда половина отделения прикрывает огнем ползущих. При поступлении вводных «усиление огня противника» или « противник с фланга», - окопаться для ведения кругового боя.
Все вроде ясно, вперед. Лейтенант идет с нами в полный рост. Неосторожно поднявшемуся он говорит: «Вы убиты». «Убитые», даже дважды и трижды, не отдыхают спокойно на ложе смерти, а ползут далее наравне с живыми. Сигнал: «Противник справа». Отстегиваем свои саперные лопатки и начинаем окапываться лежа: из рощи-то стреляют! Копать стрелковую ячейку лежа очень трудно, особенно тем, кто лопату держит в руках первый раз в жизни. Лейтенант и сержанты - командиры отделений учат, как правильно и быстро окопаться. Сухой грязный песок легко поддается лопате, но как вода снова заполняет уже отрытое пространство. Окапываемся мучительно долго. «В бою вы все бы уже полегли», - грустно отмечает лейтенант. Солнце стоит уже почти в зените и шпарит немилосердно. Пить хочется неимоверно, но лейтенант разрешает только пригубить баклажку: питье в бою вредит, пот будет заливать глаза и снижать точность стрельбы. Наши нарядные ярко зеленые гимнастерки стают цвета хаки от пота и пыли. В дальнейшем они так пропитаются нашим военным потом, что станут почти белыми, и будут стоять на земле вертикально без всяких вешалок, как рыцарские доспехи.
Дни потянулись за днями. Предоставим слово студенческому фольклору: почти строевой песне на мелодию «Вот солдаты идут…».
Этот фольклор, не страдающий пушкинской краткостью и выразительностью, чудом сохранившийся в моем архиве, с протокольной точностью описывает нашу военную жизнь. Впрочем, не все было так уныло. А песни были и другие, обычно - военные, строевые. Однажды вечером, предельно усталые, два взвода сварщиков брели под командой молодого, но уже достаточно тупого замполита. Хорошо отдохнувший во время наших боев, замполит вдруг гнусавым голосом завопил: «Запевай!!!». Чтобы заткнуть его бодрость, я затянул нечто, совершенно непотребное, рискуя нарваться на вывод из строя и длительные «разборы полетов».
Шагающий народ уловил ритм популярного фокстрота и замер, если это можно сказать о шагающей полусотне бойцов. Не разобравшись, что к чему, замполит неожиданно дал команду: «Подпевай!» Тогда полусотня глоток во всю мощь выдохнула слова, поставившие весь лагерь «на уши»: до сих пор никто таких слов не пел!
Шаг строя четко печатался под этот ритм и могучий хор во всю глотку проорал припев два раза. Я затянул второй куплет, слова которого сейчас уже не помню, и хор дважды потряс припевом засыпающий лагерь.
Бодрый замполит, кажется, получил втык за нашу «строевую», но мы ее продолжали время от времени «озвучивать». Фирменной же песней сварщиков стала ария Певца за сценой из оперы Аренского «Рафаэль»(?). Я тогда собирал пластинки классической музыки, эта ария мне нравилась, и я, дурачась, иногда ее «вопил» в подходящей обстановке. Однажды меня поддержал Толя Венгрин, затем - Юра Высоцкий, который был певцом настоящего, институтского хора, работавшего на высоком уровне. Несколько человек «солистов» с чувством вытягивают необычные для строя слова и яркую мелодию:
Могучий хор на всю катушку так самозабвенно орет, как ему хорошо, что близкие и дальние слушатели начинают оглядываться в поисках небывалой сладости…
За неделю до конца лагерей жизнь двух взводов сварщиков в полутысячном отряде КПИ круто меняется. Наш лейтенант со своими сержантами уходит, его заменяет старший сержант Дегтярев и сержант Трусов. Эти ребята из войск, вскоре им предстоит «дембель» и они хотят спокойно провести последние деньки.
После обычного подъема, зарядки, завтрака мы обвешиваемся снаряжением, готовясь отрабатывать очередную тему «Взвод в наступательном бою». Расстояние до исходных позиций - уютной рощицы, - мы преодолеваем стремительным броском. В роще вместо боевой задачи, мы получаем команду «Ложись!». Место для начала наступления выбрано очень удачно: мягкая травка, тень от деревьев. Привычно залегаем лицом к противнику, готовим оружие и лопатки. Вторая команда: «Закуривай, трави анекдоты!» - вносит в наши ряды веселое оживление. Вооруженный взвод, нацеленный на атаку, немедленно превращается в пикник «на пленэре» участников районной самодеятельности. Анекдоты сыплются, как из рога изобилия, все круче по сюжетам и семантике. Всех затмевает Сева Троицкий: он читает в лицах басню Михалкова «Заяц во хмелю». Его Заяц и Лев настолько уморительны, что народ катается по траве и утирает слезы.
Незаметно подкрадывается время обеда. Отдохнувшие и свежие мы бодро печатаем шаг на линейке лагеря, гремим строевой песней. Унылые механики и металлурги еле бредут, измочаленные атаками и окапыванием. Нас ставят в пример.
После обеда в той же роще мы мирно дремлем на травке, отцы-командиры - тоже. На следующий день все повторяется. Теперь Сева читает нам стихи: как пишут о любви поэт, шофер и поэт-футурист. К сожалению, я помню только фрагменты.
Поэт: ….пою, шучу, смеюсь, и все я для тебя. Мы все идем, и зелень полевая ромашкою нам будет радовать глаза. А в воздухе, как будто неживая, - повисла стрекоза…
Шофер: …Маруся, милая, родная, не знаю, как и говорить: любовь неслыханно шальная давно в душе моей кипит, кровь стала гуще вискозина, а мысли вязки, как тавот… любовных мыслей барботашь, кипит в ней словно радиатор, когда воротишься в гараж…
Поэт-футурист: Гадюка мировая, заводная! Девчоночка с присыпкой на большой! Я от муры душевной изнываю, я - влип, как сволочь, - телом и душой!…Девчоночка! Во всю мою любилку - люблю тебя, - от клифта до колес… Мы - топаем. Жарища - как в мартене, а на полях - шикарная буза. Туды ее, в крыло, и в хвост, и в зенки: над нами уж психует стрекоза!
Так мы живем несколько дней. Всем очень нравится такая жизнь, все в восторге от такого командира. Взбунтовался один Миша Шовкопляс, хвативший солдатской доли в прошедшей недавно войне.
- Да он просто лентяй, наш командир! Если придется воевать, он запросто положит всех своих людей! - кипятится Миша. Но против массы - не попрешь, хотя многие в душе согласны с бывалым воякой.
Оканчиваются лагерные сборы. Мы переодеваемся в свою одежду, наступает трогательное прощание. На память о наших совместных боях команда сварщиков дарит Дегтяреву наручные часы. Купить их здесь негде, поэтому часы снимают с моей руки, а мне скидываются по червонцу. Расставаясь со своим первым в жизни хронометром (часы шли удивительно точно), я уныло шучу, что буду теперь определять время по номерам купюр…
В день моего двадцатилетия, ранним утром 22 июля 1951 года, мы выгружаемся в Киеве. Трамваи и троллейбусы еще не ходят, и большая группа отправляется в общежитие пешком. Мы подтянулись, загорели, окрепли. Мы - сержанты Советской Армии. Мы молоды и полны сил. С удивлением ловим себя на том, что пытаемся идти в ногу.
Недавно я прочел в газете о совершенно новом хобби американской молодежи, названном мудреными английскими словами flash mob. Группа людей сговаривается одновременно делать что-то непонятное другим, например, спрашивать несуществующую газету в киоске. Авторитетно сообщаю, что аналогичное действо было проделано в Киеве более полувека назад. На пути нашей группы оказался открывающийся гастроном. Полсотни человек вошли туда и образовали очередь к ошалевшей продавщице съестного, ничего не покупая и ничего не говоря. Поскольку половина очереди стояла на тротуаре, то к ней быстро начали сбегаться и пристраиваться люди. Время было такое, что надо было сначала занять очередь, а уже потом разбираться, что дают… Когда очередь, несмотря на раннее время, достигла огромных размеров, ее начало, которому по определению должен был достаться «дефицит», вдруг снялась и двинулась дальше, оглашая полуспящий город дружным смехом…
К вечеру мы получили стипендию - за прошлые месяцы и каникулы, и бурно отпраздновали в общежитии все сразу: конец второго курса, получение высокого (я вовсе не шучу) воинского звания «сержант» и мой второй юбилей - двадцатилетие.
Наручных часов «Победа» в Киеве не было. Я объездил много магазинов, - увы… Чтобы не растранжирить деньги, я положил их на аккредитив. Через пару месяцев это малозначительное событие перевернет мои представления о некоторых вещах.
Чтобы больше не возвращаться к военной теме в институте и соблюсти некую связность в моем сбивчивом повествовании, расскажу о вторых военных сборах после 4 курса.
Лагерные сборы проходят в лесах возле Броваров, вблизи Киева. Несмотря на присвоенные воинские звания, обмундирование выдали нам такое же х/б и б/у, как в первый раз, и точно такие же «беспросветные» черные погоны. Правда, теперь на погонах красуется два крылышка над колесом: мы автомобилисты. Мы уже «без пяти минут» инженеры, и эти сборы соответствуют нашему статусу. Командирами отделений у нас курсанты Роменского (?) автомобильного училища, которые смотрят на нас снизу вверх
Занятия проходят в больших классах или в тени сосен «на пленэре». Живем, правда, по-прежнему в палатках, но не так тесно. Палатки расположены в уютной сосновой роще, обильно засыпающей наши территории колючими шишками. Уборка шишек - не столько обязанность дневальных, сколько орудие наказания проштрафившихся. Дурачимся мы в полной мере, но довольно интеллектуально, что ли. В нашей группе образован «Совет министров». Среди 10 министерств есть министерство «Очистки воздуха», «Сбора шишек». Совмин издает газету, в которой печатаются Указы, сведения о наградах, прогнозы действий «Богов» и «Потусторонних сил». Есть несколько фотоаппаратов, поэтому снимков той поры - уйма.
Военная наука об автомобилях - весьма полезная. Учимся составлять «кроки» и «легенды». Это краткая схема для автомобиля или колонны, с указанием приметных ориентиров и, главное - расстояний, так, чтобы движущиеся только по крокам, без всяких расспросов «туземцев» приехали в нужное место. «Кроки» неумелых обычно обременены массой ненужной, избыточной информации, и почти полным отсутствием необходимой. Наша группа садится на автомобиль и петляет по разным дорогам километров 10 - 15. Курсанты (мы) должны на лету «законспектировать» маршрут так, чтобы другая машина могла точно повторить его без каких либо остановок. Только побывав в шкурах составителя кроков и едущего по ним, начинаешь понимать, как и что видит человек за рулем.
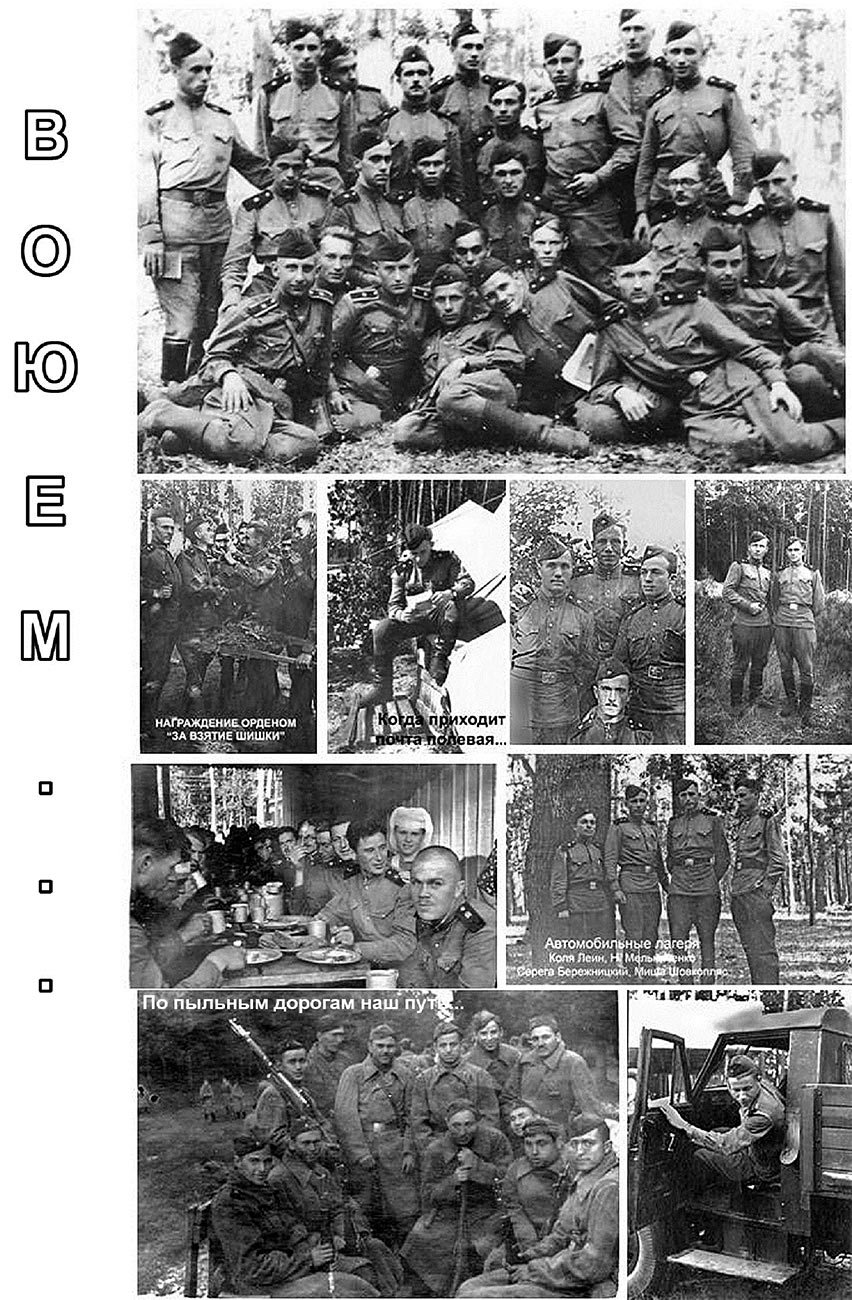
Непростая наука - организация движения больших колонн автомобилей, особенно ночью, особенно - в военных условиях. Сейчас Чечня показала, как кровью расплачиваемся за это незнание «пройденного материала». С горечью читаю о том, как разделываются с «колонной автомобилей» боевики, - просто хорошо обученные бандиты. А что, теперешние отцы-командиры забыли слова «боевое охранение»? Надо ли опять наступать на грабли, обильно политые кровью предшествующих поколений?
И еще об одном вопросе, когда «за державу обидно». Мы изучаем подробно трехосный автомобиль ЗИС, принятый на вооружение армии как тягач и грузовик - вездеход. Внешне грузовик - копия «Студебеккера». Только получился он почему-то тяжелее на целую тонну, с «дохлым» двигателем в придачу и слабенькими фарами. На песчаных и проселочных дорогах грузовик еле тянет сам себя. В списке конструктивных изменений (КИ), вносимых после войсковых испытаний, читаем: «усилить…», «укрепить…», «увеличить толщину…». Все КИ утяжеляют машину, и без того перегруженную собственным «телом». Начинаем разбираться с деталями. Литые рубашки мостов у американцев толщиной всего 3 мм с «вафельными» ребрышками. Поломок - не бывает. У нашего ЗИСа - чугунное литье толщиной до 10 мм, которое надо делать еще толще: при нагрузках разрушается. У американцев очень сложный, но сверхнадежный карбюратор на всех режимах работы двигателя. У нас - упрощенный, который чахнет даже на холстом ходу. У американцев - лампы-фары, свет которых виден даже на тучах. У нас - подслеповатые лампочки за туманными рассеивателями. У них - высокоточные шестерни в передачах; для их смазки достаточно жидкого масла. У нас ревущие шестерни, которые требуют густого нигрола. А на морозе нигрол застывает до твердости асфальта; чтобы сдвинуться с места водители разжигают под машиной целые костры. И так далее, и тому подобное. Ходили слухи, что комиссию, которая приняла этот грузовик на вооружение, посадили в полном составе. Если так - очень правильно посадили.
Взгляд из военного будущего. Я так подробно останавливаюсь на этом грузовике (его полное название, кажется, ЗИС 131), потому что в дальнейшей жизни мне пришлось хлебнуть с ними лиха. Когда в начале 60-х годов мы начали сооружать ракетные старты в лесах Прибалтики, то там понадобилась, наряду с обычной, высококачественная сварка в среде аргона изделий из нержавеющих сталей и алюминия. Промышленное сварочное оборудование в полевых (лесных!) условиях для нас оказалось непригодным. Пришлось сооружать свое, с независимыми источниками энергии. Фургоны на шасси наших ЗИСов были набиты оборудованием и кабелями до отказа. Кроме того, автомобили должны были буксировать специальный прицеп с тяжелыми источниками сварочного тока. Тяжело, конечно, но в пределах паспортных данных автомобиля. Так вот: по хорошему шоссе мы могли разогнаться аж до 40 км/час! На проселках мы элементарно застревали на наших вездеходах, со всеми вытекающими последствиями… А уж внезапных поломок было не сосчитать! Кстати, по теории автомобиля, поломка - это ЧП; норма - обычный износ, устраняемый плановыми заменами агрегатов. И эти автомобили выпускались на прославленном ЗИС – ЗИЛ в Москве, где начиналось наше автомобилестроение! Надо заметить, что и легковые «Москвичи» никогда не отличались высокими качествами. Столица, все-таки: очень нужен им этот технический прогресс! Сейчас, в условиях конкуренции, хотя и сильно «придушенной», и ЗИЛ и бывший МЗМА зачахли: их продукцию просто перестали брать. Это справедливое наказание за былое спокойствие и почивание на лаврах!
Еще одна неожиданная вставка, уже авиационная. Только что (8-00, 07. 11. 2004 г.) прослушал по ящику очень толковую и подробную передачу из истории авиации. Во время войны американцы построили небывалый до того дальний бомбардировщик Б-29 «Летающая крепость» (B-29 Superfortress) с дальностью полета 5500 км, максимальной скоростью 576 км/час на высоте 10 000 м, и огромной – (до 10 т) – бомбовой нагрузкой, в перспективе рассчитанный на доставку к цели атомной бомбы. Американцы, мобилизовав огромные ресурсы, поставили в 1943-м производство Б-29 на поток, всего было выпущено около 4000 самолетов. В 1944 году эти самолеты начали массированные бомбежки Японии. Три самолета, поврежденные японскими ПВО или из-за технических неисправностей, сели на советский аэродром возле Владивостока. Американцы надеялись, что мы как союзники, дозаправим и отпустим самолеты. Но СССР был связан с Японией действующим договором о нейтралитете и не мог этого сделать. Экипажи самолетов были интернированы в Ташкенте. Позже, по настоянию США, им устроили «побег» в Иран, где отпустили. А вот история трех самолетов – интересная. В СССР не было таких машин, и Сталин приказал скопировать самолет без всяких конструктивных изменений – «один к одному». Это обстоятельство в передаче подчеркивается особо: любое изменение влекло за собой десятки других. Руководители всех КБ, кроме Туполева, от этой работы отказались. Самолеты перегнали в Москву, начался напряженный труд в течение двух лет. Что значит скопировать деталь, узел, устройство «один к одному»? Это значит, прежде всего – разгадать и скопировать технологию производства материалов для его изготовления – различных сплавов, пластмасс, изоляторов и т. д.; затем изобрести и сделать технологическую оснастку… Особые хлопоты конструкторам доставляли электронные приборы дистанционного управления и навигации. Даже – дюймовая система мер…
Конечно, совсем «один к одному» не получилось. Были поставлены отечественные двигатели (мощнее), ликвидированы герметичные кабины и помещения, установлено более мощное отечественное оружие. Но, благодаря идеологии «один к одному» было сэкономлено драгоценное время и получен все тот же B-29 Superfortress, способный нести атомную бомбу. Когда американцы в 1947 году увидели в небе первые три самолета Ту-4, они даже подумали, что это их Б–29 из Владивостока... Самолетов Ту-4 до 1952 года было выпущено свыше четырех сотен. Они стали заметной вехой в истории отечественной авиации. Это для Ту-4 строились аэродромы в Заполярье: чтобы донести через Северный полюс «гостинцы» до США в период холодной войны. Ракет еще не было… Увы, в нашем мире считаются только с сильными.
А теперь стало понятным, за что надо было сажать комиссию, принявшую на вооружение ЗИС: копировали недостаточно тщательно – раз; все конструктивные изменения только ухудшали машину – два. Так им и надо, троечникам…
Чтобы не кончать на уныло-технической ноте, хочу рассказать о «страшном» случае. Наша группа, сидя в тени сосен, слушала майора Смирнова. Внезапно у меня завертело в носу, и я чхнул. Чих у меня, от природы громкий, на самой природе получился особенно звучным. Майор от неожиданности подпрыгнул. «Кто чхнул???», - взревел он. Я поднялся и скромно обозначил свое авторство. Майор, не ожидавший столь быстрого раскрытия преступления, затих на целую минуту, затем произнес: «Вам с таким чихом надо в цирке работать, а не срывать мне тут занятия!».
Лагерные сборы окончились. Немного позже мы сдали госэкзамены. Торжественно нам были присвоены воинские звания «младший инженер-лейтенант автотракторной службы запаса». Эти высокие звания нам были нужны, как рыбе зонтик: война не просматривалась, и нас ждала промышленность по основной специальности. Однако незабвенный Козьма Прутков нас учит: «Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?». Чуть больше одного года отделяло меня от этого «случая в атмосфере»…
Первая встреча.
После балетно-пехотных лагерей и празднования двадцатилетия, я прибыл в «родовое поместье» в Деребчине. Там меня уже ждали мама, Тамила и школьные друзья. Работать на заводе уже было некогда, и я готовился к бездумному отдыху. Хотя, к «восхитительному ничегонеделанию» и готовиться особо не надо.
Немного поспал, немного поработал по хозяйству. Провел пресс-конференцию с мамой и Тамилой по наболевшим вопросам. Редько по-прежнему угнетал маму сокращением часов, что влияло на зарплату. Решили: плюнуть. Проживем. Тамила поступила в Киеве в Финансово-экономический институт, получает стипендию, живет в общежитии. У меня стипендия - вообще большая, еще и Тамиле кое-что подбрасываю. За общежитие плачу только 15 рублей в месяц. Дядя Антон перебрался из далекого Тейково Ивановской области в Винницу, периодически по делам Винницкой электростанции бывает в Киеве, кое-что подкидывает. Сейчас зовет в гости в Винницу, пожить, отдохнуть. Картошка посажена, значит - вырастет. Жизнь улучшается, цены - снижаются. Короче: все идет к лучшему. К светлому будущему - прорвемся.
Двинулся на «завод» (это и часть села вокруг завода), конечно, - к Яковлевым. В этом гостеприимном доме всегда полно молодежи. Уже собралась вся наша бывшая школьная компания, Славкины родители, сестра Зося, ее муж Саша, еще какие-то малявки. Одну, правда, знаю: это, кажется, Мирослава, младшая сестра Тамилиной подруги Иры Стрелецкой.
Меня, задержанного собственной милитаризацией, уже ждут. Радуемся встрече, ржем по разным поводам. Выдаю Саше «средствА» на бутылочку, Саша реагирует мгновенно: магАзин рядом. На стол выносится картошечка, огурчики. Слегка пропускаем ради встречи, перекуриваем.
За убранный стол садимся, не переставая ржать, с самыми серьезными намерениями: играть. Раньше, бывало, Славка брал мандолину, и мы пели всякие грустные и не очень песни. Сейчас мы перекидываемся в подкидного дурачка, и просто треплемся по разным поводам. Наше богатое театральное прошлое зовет также к воспоминаниям. Больше всего воспоминаний по учительской «Наталке Полтавке». Я изображаю в лицах встречу Петра (Иван Иванович), Наталку (Анна Петровна) и себя, несчастного суфлера, на этом празднике жизни. Вспоминаем также «Балтийского мичмана» и нашу драку на сцене. Славка пыжится, говорит, что мог бы мне тогда дать прикурить, если бы я не напомнил ему о тексте пьесы. Все ржут.
Приглядываюсь к одной из малявок. Одета просто, но с большим вкусом. Красива, точеная фигурка - все при ней. Несмотря на свой детский возраст, чувствует себя в нашем, вполне взрослом, сборище совершенно спокойно, ведет себя с достоинством и на равных. Очень хорошо чувствует и воспринимает юмор. Когда шуточки приобретают скользкий характер, она удивленно приподнимает одну бровь, и все входит в русло. Славка вокруг нее слегка увивается: она его родственница и надо показать уважение и заботу. Малявка иногда смотрит в мою сторону, и мы встречаемся глазами. Глаза - хороши!
Начинаем играть в «Цветочный флирт». Эта, по всей видимости, - дореволюционная игра чудом сохранилась у Яковлевых. На двух десятках глянцевых картонок - душещипательные, вопросительные, шутливые и иные высказывания Цветков в яркой, иногда - пушкинской форме. Надо подобрать подходящий вопрос – ответ, и передать адресату со словами, например: «Роза!». А там, например, слова: « А где вчера вечор Вы были, когда я Вас ждала напрасно?». В ответ можно нарваться на Гиацинта, который ответит: «Устал я слушать Ваши бредни!». Но если повезет, то можно получить признание Незабудки: «Я Вас люблю, к чему лукавить…». «Беседуют» таким способом все сразу, каждый с каждым…
Уже более полувека не играл я в эту наивную милую провинциальную игру. Наверное, и сейчас она мне, уже старому деду, нравится больше, чем страстное мычание трех – четырех слов полуголой девицей, эффектно вертящей своими прелестями в обрамлении лазерных вспышек…
Между нами происходит «цветочный» диалог, примерно такой.
- Кто Вы, дитя? Что занесло Вас в наш медвежий угол?
- Я тот, которого никто не любит…
- Роль Демона Вам не подходит! Вы - прелестны!
- Вы - лицемерны, льстите мне напрасно.
- Ах, горький жребий мой: меня никто не понимает…
- Я знаю: в Вашем сердце есть и гордость и прямая честь…И так далее, и тому подобное…
Славка иногда ревниво перехватывает наши послания. Он доволен: мы просто болтаем, а не договариваемся на языке цветов о свидании. Да и зачем мне свидание с этим ребенком? Я за два последних года в Киеве совершенно изменился, даже бывшие переживания по Ире Мазур мне вспоминаются, как давно прошедшие благоглупости.
(Это не только слова. В фото той поры, когда был выход «на природу», я с удивлением увидел, что Ира была тогда в нашей компании. Этого я просто не помнил, значит, - ничто уже не волновало, я выздоровел и был спокоен…)
Расходимся от Яковлевых поздно. Мирослава ушла раньше. Малявку беру «на буксир», чтобы немного позлить Славку. Идти - метров 300, до квартиры Стрелецких, где она остановилась. Малышка просит моего совета. Она окончила семь классов. Что ей делать дальше: поступить в техникум, чтобы пораньше помочь родителям, или продолжать учиться в 8 - 10 классах? Я не знаю, как велики трудности у родителей, которым надо бы помочь, но мне жаль ввергать такое юное создание в трудовые будни ради куска хлеба. Кроме того, раз родителей двое, то как-нибудь уж выдержат эти безвестные родители: моя мама работает одна, и то двое детей получают высшее образование. Даю твердый совет: продолжать учиться в школе, привожу доказательства. Уже дошли до крыльца Стрелецких, прощаемся, как юные пионеры. Убеждаюсь, что провожаемой открыли дверь, делаю ручкой тете Ядзе и ухожу. Малявку зовут Эмма.
Опять лингвистика, круто замешанная на мистике. Господи, прости родителей, дающих по молодости и глупости своим детям дурацкие имена, ибо не ведают, что творят! Разве могут они предположить, что имена людей напрямую влияют неведомыми нам путями на их судьбу? Как мучаются потом несуразные Рэмиры, Вилены, Элросы, Вилоры, Энгельсы, Владилены и другие Марксы и Эпроны! Рано ушли из жизни моя младшая сестра Тамила, младший брат жены Жанлис… Я доволен своим именем, спасибо дорогим родителям, что они не выпендрились на нем. На украинском языке оно звучит «Мыкола»: этакий неповоротливый и не очень сообразительный увалень, что соответствует моему содержанию. Зато русский «Николай» приобретает черты некоей чудотворности (зимней и летней) и даже победоносности, ведь крылатая Ника - богиня Победы! Немецкое имя Эмма с двумя «мм» произносится со сжатым, как от зубной боли, ртом и совершенно не подходит моей прелестной малышке. Я называю ее «Ема», часто с ударением на последнем слоге. Правда, Ема иногда превращается в строптивую Эмму: так и буду писать...

На другой день прихожу пораньше, прихватив арендованный у кого-то фотоаппарат. В нем осталось всего несколько свободных кадров, но мы с Эммой и Мирославой отправляемся в парк фотографироваться. Кадры у меня кончились, но детям я это не объявляю. Гоняю их по деревьям, они принимают красивые позы, я любуюсь и щелкаю пустым аппаратом.
Через пару дней в Винницу идет заводская машина. Мне туда надо к дяде Антону, Эмме - к родителям. Договариваемся ехать вместе, да и тетя Ядзя одну ее отпустить не может.
Едем в кузове грузовика. Малышка с упоением рассказывает мне что-то о собаке Мухе и других домашних животных, которые у них жили. Солнце освещает ее глаза, прекрасные глаза, оживленные рассказом. Я слушаю и не слышу: я утонул в этих глазах…
Довожу ее к знакомой тетке в Виннице, откуда ее должны забрать родители. На следующий день назначаем наше первое свидание. Я отправляюсь к дяде Антону; его квартира находится на территории электростанции в доме, стоящем на берегу Буга. Дядя рад, тетя Тася вкусно нас кормит. Мы с дядей идем сразу на электростанцию, где мне все интересно. Под вечер с Виктором начинаем ловить рыбу для кота. Увы, у меня не клюет даже самая хилая уклейка, которые одна за другой лезут на тот же крючок, но который забрасывает Виктор.
На условленном месте свидания жду больше двух часов, затем отправляюсь вдоль по улице Маяковского к дому номер 113. Это Старый город, фактически - старое село с усадьбами. Здесь каждый номер тянется на величину обширного участка, поэтому улица оказывается самой длинной в мире. На полпути вижу встречный грузовик, который, уже проехав, вдруг останавливается. Из кузова меня зовет весьма объемистый мужчина. Приближаюсь. В кузове также сидит моя малышка, с ней - еще одна. В кабине сидит женщина, которая не выходит. Мужчина - отец Эммы, это я понимаю по ее обращению. Он страшно торопится куда-то. Я взбираюсь в кузов, наспех здороваюсь, мы грохочем в город. На одном из перекрестков Эмма, подруга Галя и я высаживаемся, машина уносится.
Эмма нервничает; разговаривает жеманно и нехотя; от былой, так покорившей меня, спокойной простоты нет и следа. Наша встреча для нее - явная помеха каким-то планам. Досадная помеха, - увы, я сам. Мысленно ругаю себя, на чем свет стоит: «Связался черт с младенцем!». Однако, - младенца не может обидеть даже черт, и я вынужден играть роль заботливого «ухажера», кажется, без особого успеха. Повисает некая напряженность, которую своими разговорами пытается развеять Галя. Беру себя «в руки», любезно предлагаю своим дамам лодочную прогулку. Галя с радостью, Эмма - нехотя, - соглашаются. «Ехать, так ехать», - как сказал попугай, когда его кошка тащила за хвост из клетки. На лодочной станции беру тяжелую четырехместную лодку и весла в руки. Дамы усаживаются на носу, я - спиной к ним; мы движемся вниз по течению.
В то время река Южный Буг в районе Винницы была удивительно хороша. Сквозь чистую спокойную воду просматривались приглаженные течением косы водорослей. «Там должно быть уйма раков», - вспомнил я ивановский пионерский лагерь. К левому, кое-где - каменистому, берегу почти вплотную подходили дубовые и грабовые рощи. За поймой низкого правого берега виднелись огороды и белые хатки, утопающие в садах.
Сначала мы планировали дойти до «камня Коцюбинского», - скопления серых скал и прилепившихся к ним деревьев, нависших над рекой. Здесь писатель, известный каждому учащемуся в украинской школе, обдумывал свою знаменитую «Фата Моргану». Скалы уже виднелись в полукилометре, но Эмма заторопилась, сказала, что отсюда ей ближе и удобнее идти к дому. Галя пыталась возразить, но Эмма только посмотрела на нее и Галя замолчала на полуслове. «Эге», - глубокомысленно подумал я. Мы причалили к поляне на левом берегу. Дамы сошли на берег, сделав мне ручкой, и по тропинке углубились в рощу. Я поплевал на руки и двинул тяжелую лодку назад, вверх по течению…
Очевидно, во время плавания мы как-то договорились о встрече. Последнее наше свидание было коротким и деловым. Вручая свой «портрет 3Х4» с лапидарной надписью «Эмме от Николая», я объяснил, что делаю это только потому, что раньше обещал. А вообще, одариваемая - еще совсем маленькая, и ей надо очень-очень подрасти, прежде чем мотать нервы взрослым мужикам. Смотрел я при этом в воду. В воду Южного Буга, со старого моста в Виннице. Меня уже не занимало выражение прекрасных очей. Роман окончился, даже не начинаясь. У меня осталось несколько снимков. Один из них я увеличил, и повесил в общежитии над кроватью: «най буде». Я был свободен, как муха.
Информация из будущего. Оказалось, что в истории нашей встречи подпольно участвовала еще одна малявка, младшая сестра Тамилиной подруги. Эта вторая малявка напела Эмме обо мне, какой я, якобы, необыкновенный и хороший. У «моей» малявки разыгралось воображение, и она, обманутая рекламой, очень хотела увидеть ее объект. Создательница рекламы ничем себя не выдала. Не на ту малявку я, оказывается, смотрел…
Заботы резервиста.
Комсомол - резерв партии (из Устава ВЛКСМ)
В начале третьего курса меня избирают комсомольским «ватажком» - секретарем комитета комсомола сварочного факультета. Оказалось, что молодой бычок может надеть на шею и это ярмо. Конечно, трудно представить, как на одной шее могут поместиться несколько ярем: шея то имеет ограниченные размеры. Поэтому метафора хромает на все две (нет, - четыре!) ноги. Лучше скажем так: к тяжелой телеге, влекомой молодым бычком, была прицеплена еще одна, не очень легкая. Бычок сдуру напрягся и потащил телеги еще быстрее, радуясь «оказанному доверию».
Почти все студенты - молодые, почти все молодые - комсомольцы. Время такое. Поэтому забот у выборного «головы» этих почти всех - хватает. А еще добавляет забот и головной боли «направляющая и организующая» сила, «резервом» которой весь комсомол и является. Скачком возрастает круг моих знакомств: кроме того, что я должен знать всех своих на факультете - и младших и старших, очень много приходится общаться с институтской элитой со всех других факультетов, часто отстаивая интересы своего. Каким-то чудом сохранился мой блокнот этого периода, где я для памяти записывал неотложные задачи. Если бы я не учился «на инженера» и больше ничего не делал, то этих задачек вполне хватило бы на полный рабочий день.
В КСМ бюро факультета (будем для краткости и дальше так обозначать ту группу людей, которая является моим «рабочим органом»), несколько «секторов». (Кто-то из знаменитых сказал: до чего же опошлена изящная математическая фигура). Это - организационный, академический, политический, культурно – массовый, студенческой научной работы (СНО), военный, шефский, физкультуры и спорта. Еще есть редколлегии стенгазет, ДСО «Наука», корреспонденты институтских газеты и радиогазеты и др. Вся эта махина командует комсоргами групп, которые уже должны доходить и опираться на «рядовых».
Основные заботы бюро - академическая успеваемость. Это основная головная боль институтского комсомола: разговоры, увещевания, помощь тем, кто «не успевает». По велению «больших старших товарищей» особенно рьяно надо следить за этой самой успеваемостью на коллоквиумах и занятиях по основам марксизма-ленинизма: «ты инженером можешь не быть, но ОМЛ ты знать обязан». Другие важные заботы - самодеятельность, «наскальная живопись» - стенгазеты, научная работа студентов, спортивные соревнования и еще куча всяких текущих дел: от подготовки к праздникам - до уборки территории.
Мои заботы очень разнообразны: ни один вопрос жизни факультета не проходит мимо «ватажка» комсомола, да и «эксклюзивных» вопросов набирается куча. Для примера приведу записи некоторых делишек только за несколько дней.
19. 10. 51. КСМ бюро. Отчет академсектора. Утверждение редколлегий «В дуге» (сатирическая стенгазета ф-та) и «Советский сварщик» (нормальная). Обострить внимание комсоргов о порядке во время вечера с пединститутом. О сборе денег на призы. О явке на хор. Информация комсоргов об успеваемости в группах. Проведение перевыборов в ДСО «Наука». О проведении вечера худ. самодеятельности. Провести в группах производственные совещания.
20. 10. 51. Подписал письмо Кожевникову (?) о личности (написано - «лице») Осипова (?) и предоставлении ему общежития. Во вторник 23 выделить 4 чел. для оформления колонны. 2 ч. дня (!) в комитет, к Павлову. Подыскать угол возле ин-та Фисуну В. (спросить у Кайдаша).
22. 10. 51. В пятницу 26. 10. выделить уполномоченного ф-та по уборке территории ин-та. Быть в 8 вечера возле комитета. Подобрать человека в институтский Совет СНО.
25. 10. 51. КСМ бюро (4 вопроса, в т. ч. об уплате членских взносов на ф-те. 3 чел. из бюро: Трахт, Леин и я присутствуем на политзанятиях в группе 1 курса ЗВ-15. Выдали замечания и провели бурное собрание. Подтянуть первый лист по черчению и «тысячи» по инязу. Шмарев - хочет помощи по математике. Неправильно: прежде всего – надо работать самостоятельно.
24. 10. Н. Леин провел бюро ДОСААФ. Председателем избран Ю. Попов (ЗВ-10). В стенгазете ЗВ-9 помещено бессодержательное стихотворение: обратить внимание редактора Персиона А. Организовать сбор денег для детей – сирот.
30 10 51. Бюро сорвалось из-за отсутствия аудитории. Поставить вопрос перед комитетом. Бюро собрать в четверг 01. 11. 51. Вопросы - те же.
Провести факультетское КСМ собрание. Сдать в комитет отчетность о перевыборах в группах.
Короткие записки из блокнота - иногда целая драма. Особенно запись от 30 октября. О ней я расскажу чуть позже. Дальше, без упоминания о тягомотине оргмероприятий, приведу только некоторые записи о людях и основных событиях
05. 11. 51. 2 ноября проведен вечер худ. самодеятельности сварочного факультета и литературного факультета пединститута.
Член бюро И. Ляховая плохо посещает лекции, слишком увлекаясь общественной работой. Указать в личной беседе.
В ЗВ-13 проведено собрание. Вопрос - об отношении к девушкам, особенно к Дробкис. Ее мать хотела писать в ЦК ВЛКСМ. Факты в основном не подтвердились. Комсомольцы требовали вызвать на собрание мать Дробкис: она сама плохо поставила себя в группе. Все же в группе к ней был не чуткий, не товарищеский подход. Поговорить с Дробкис об отношении к ней группы, дать ей общественную работу. Выяснить роль Скульского.
Аналогичных записей - целый блокнот. Необходимы некоторые пояснения. Начнем с конца. Девочка Дробкис - нервное, избалованное мамой дитя, впрочем, - не лишенное чисто женского обаяния. На третьем курсе технического вуза она впервые узнала, что такое болт. Влюбленная в Юру Скульского, она умудрилась сделать это чувство достоянием широкой общественности. Юра, - наш кудрявый красавец и певун, не совсем корректно «закрыл» ее чувства. Учеба вся была завалена. Кроме того, своими амбициями и фантазиями она так восстановила против себя всю группу, что речь уже шла об ее суициде. Думаю, что наше, достаточно тактичное, вмешательство было нужным и своевременным. Курсовой по деталям машин она уже делала в общежитии в нашей комнате под присмотром Коли Леина и моим. Там то мы и узнали, что она не ведает, что такое болт…
Инна Ляховая, девушка с задумчивыми серыми глазами из младшего курса, увы, сохла по мне. На всех бюро она садилась в первом ряду и не спускала с меня глаз. Готова была взвалить на себя любую нагрузку, лишь бы общаться с «предметом». Сначала было непонятно, некоторое время - лестно, потом - надоело. Со всей «комсомольской принципиальностью» я вынужден был сказать ей, что ничего у нас не будет. Дурочку было немного жалко. К счастью, она горевала, кажется, недолго. Забегая вперед, скажу, что аналогичным образом мне пришлось ответить на признание Гали Куриленко, лучшей волейболистки института, высокой и стройной, а также одной из наших девушек-шефов. Поля Трахт, с которой мы дружили в институте, была умная девушка: сама все поняла, да и ее жених Озик не спускал с нее глаз. Судьба явно вела меня к другим берегам…
Самодеятельность была отдушиной многих и предметом головной боли для комсомольского руководства. В институте были классные хор и танцевальный коллектив, которыми руководили профессионалы. На факультетах все было попроще, но ближе. Между факультетами существовала в самодеятельности острая конкуренция. Наш сварочный был гораздо меньше гигантов химического или электротехнического, но мы не собирались сдаваться. Как и в «наскальной живописи» - стенной печати. Возле наших «дацзы бао» всегда стояла толпа студентов и веселилась. Этой «прессой» заведовал Сережа Кучук-Яценко, будущий член-корр. Академии Наук Украины, симпатичный парень с черной шапкой непокорных кудрей. Рисовал совершенно убойные картинки Миша Терех, - оба со старшего курса.
В самодеятельности главной составляющей был хор, очевидно из-за отсутствия ярких вокальных дарований. В хоре можно было каждому гудеть понемножку, но умелый дирижер из этого жужжания и гудения мог выстроить нечто удобоваримое, точнее - «удобослышимое».
Хором сначала руководил воспитанник военно-музыкальной спецшколы Миша Кандин из моей группы. Миша - невысокий бледнолицый блондинчик с гладко зачесанными назад длинными волосами. Миша нервно, можно сказать - болезненно, реагировал на любые отступления свободных тружеников вокала от воинских уставов. Он мог руководить хором, только если хористы стояли в четком строю, пожирали глазами начальство (его) и неукоснительно, молча и с рвением выполняли его предначертания. (Молчать нужно было только во время прослушивания ЦУ и ЕБЦУ; затем, конечно, вопить в указанном руководством направлении). В нашей вольнице такая схема работала со страшным скрипом. Репетиции хора состояли из гневных призывов маэстро к порядку и унылых причитаний о невозможности работы с таким человеческим материалом. Другого, увы, - не было. Бедный Миша совсем извелся. Окончательно его выбил из колеи пустячный случай. В тишине лекции, под дружный скрип перьев, задумчивый голос с задних рядов (с неба?) произнес: «А Кандин сегодня опять пьяный». Кандин взвился: «Кто сказал??? Когда меня видели пьяным???». Заданные столь экспрессивно вопросы почему-то повергли аудиторию в безудержное веселье, а Мишу - в исступление. Лекция прервалась, Кандин начал доказывать всем, что он никогда не напивался, и, если и пил, то совсем немного. Тут уже народ совсем неприлично начал валиться от смеха…
С тех пор и повелось: в самый неподходящий момент раздавалось: «А Кандин опять пьян!». Кандин взвивался, и все начиналось сначала. Измученный маэстро обратился с жалобами к своему другу - добродушному и покладистому Боре Вайнштейну. Тот сочувственно поддакивал жалобщику, а в заключение назидательно произнес: «Вот что бывает, когда напьешься всего-то один раз!». Миша чуть не убил своего друга…
Командовать нашим хором был приглашен жених Поли Трахт, лощеный и вежливый Озик Мисонжник, учащийся какого-то музыкального училища. Он приходил со своей скрипкой, спокойно пережидал шум вокальной тусовки, и начинал работать. Запели мы лучше, в хоровом гаме появились партии первых и вторых голосов, дружный рев иногда переходил в задушевное мурлыканье, когда такового требовал текст. Пели мы в основном военные песни - «Вот солдаты идут», «Соловьи», «Дороги», «Темная ночь» и другие, - широко известные и любимые. (Когда эти песни небрежным голосом оторви-бабы заголосила Гурченко, я просто возненавидел эту «козу». Ну и пела бы для своих козлят дурным голосом; зачем пакостить то, что знает и любит весь народ. Особенно теперь, когда голоса совсем не стало, а на подтянутой морде лица уже и глаза не открываются).
Хор наш был на высоте, но нам для разнообразия не хватало сольных номеров. Кто-то сказал, что поет Петрунькина Галя, маленькая блондиночка из младшего курса. Она пропела куплет «Гуцулки Ксени». Голосок и «видимость» были так себе, но я настоял, чтобы Петрунькину включили в программу. Соло, почти народная, украинская, - вот три «за», которыми я оперировал. В спешке согласились, что едва не привело к катастрофе.
На вечере Петрунькину выпустили в первой части. Дитё вышло на сцену и начало чирикать. Первый куплет народ слушал, ожидая всплеска эмоций у певицы после тихонького начала. Всплеска не последовало: в таком же ключе были прочириканы второй куплет и припев. Народ приуныл, ожидая, когда это кончится. Кончилось не скоро: Петрунькина знала и без устали чирикала на одной ноте 31 (!) куплет этой песни, со всеми припевами и подробностями. На четвертом куплете народ начал стучать ногами. На седьмом - начал в массовом порядке покидать зал, особенно ребята из других факультетов, отпуская шуточки о самодеятельности сварочного факультета. На шипение из-за кулис «Кончай! Заткнись!» и на топот зала Петрунькина не реагировала: она «поймала кайф», это был ее звездный час. Закатив глаза, она « песню что задумала, допела до конца».
Пришлось срочно объявлять перерыв, а после него выпускать на сцену Севу Троицкого, чтобы вернуть в зал зрителей…
(Надо заметить, что тогда мы не были закалены современной попсой, когда даже не куплеты, имеющие смысл и логику, а просто несколько слов - часто дурацких, - повторяются десятки раз подряд. Слушая такое «эссскусство», уже с умилением вспоминаю простодушную Петрунькину, а к исполнителям попсы обращаюсь с призывом: «Ежели ты, собака, знаешь еще хотя бы пару слов, кроме этих, - то произнеси их!». Увы, не внемлют…)
С девушками пединститута у нас завязалась дружба через общих знакомых киевлян. Встретилось комсомольское руководство факультетов и договорилось о совместных мероприятиях. У них уже тогда было очень мало мужиков, у нас - девушек, поэтому идея с энтузиазмом была подхвачена широкими слоями народа. На наш вечер пришло очень немного их девушек, никому они не были знакомы, поэтому намеченная «стыковка» не состоялась. Вместе с комсоргом Марией, симпатичной и юморной девушкой, мы придумали другой план. Собрав деньги, мы закупили около сотни билетов в театр имени Ивана Франко. Места были на галерке, самые дешевые. Билеты поделили так, чтобы справа от нашего парня сидела их дева. Все шло по плану, мы с Марией уже радовались удачному замыслу. Потух свет, начался спектакль. Мы считали, что темнота - знакомству не помеха. Внезапно в одном ряду начал разгораться громкий скандал, затем появились две дежурные служительницы Мельпомены, которые вывели под белы ручки нашего Ивана Мусиенко. Я ушел следом разбираться, и мой спектакль с этого момента слегка изменил название и профиль. Долгие дебаты внесли некоторую ясность в запутанный вопрос. Оказалось, что справа от нашего Ивана по каким-то причинам села совершенно посторонняя девушка, да еще ожидавшая своего парня. Иван, жаждая плановой встречи и руководствуясь общим стратегическим замыслом, полез знакомиться, тем более, что дева ему понравилась. Дева ему ответила категорическим «фе». Иван возмутился: раз комсомол приказал, ты просто обязана познакомиться со мной. Не понявшая ничего дева пыталась покинуть «зону знакомства», но великан Мусиенко слегка усадил ее опять, после чего дева начала вопить. Две служительницы еле вытащили из рядов театралов нашего Ивана. Понятно, какой именно спектакль смотрела в это время вся галерка.
Мне пришлось вертеться ужом, ежом и лисой одновременно, чтобы: а) угомонить Ивана; б) успокоить возмущенную деву; в) уговорить служительниц не нажимать кнопку вызова милиции. Мой спектакль кончился благополучно, а тот который шел в зале - неизвестно.
В дальнейшем наша дружба с педагогическими девушками плавно «сошла на нет», как ни старалась комсомольская верхушка соединить разрывающиеся нити массовых «дружб». Позже я понял истинную причину. Наши ровесники девушки уже были «на выданье». Впереди их ждали сельские школы с очень ограниченными мужскими ресурсами. Поэтому в наших ребятах они видели прежде всего женихов, и активно демонстрировали это. А свободолюбивые «наши» еще не были готовы к такому повороту событий: впереди была большая жизнь и нужная для нее свобода. Конечно, я имею в виду общие тенденции. Несколько симпатичных девушек «прижились» у нас, но их встречи с нашими ребятами были уже сугубо индивидуальными, без привлечения общественности. Возможно, девушкам впоследствии и удалось стреножить наших диких мустангов…
Мы - орудие в чьих-то руках.
Я не знаю, как писать этот раздел даже сегодня. Считать себя «борцом за идеи партии», - совесть не позволяет. Быть просто «слепым исполнителем», - мне вообще не дано природой. Мой командир А. М. Шапиро по моему поводу шутил: «Если Мельниченко утонет, - ищите его вверх по течению». (Кстати, позже я узнал из афоризма Ежи Леца, что это не так уж и плохо: «чтобы добраться до источника, надо плыть против течения»).
Придется просто описать голые факты. Но прежде, чем их «раздеть», хочу рассказать о двух предыдущих историях, которые весьма способствовали дальнейшему безобразию.
В комнате Поли Трахт, с которой мы дружили с первого до последнего курса, проживала некая Белла Сандлер; училась она, кажется, на химфаке. Девочка была так себе: неопределенные кудряшки над круглым, каким-то пятнистым лицом, и круглые же, слегка навыкате глаза. Одежда ее, даже при наших, очень невзыскательных «прикидах», навевала мысли о еще более нищенском существовании. По рассказам Полины, у нее в каком-то местечке (так на Украине называют небольшой еврейский городок) проживала одна мать и еще несколько детей в страшной бедности. Белле сострадали и помогали все: профком выделял бесплатные путевки в дома отдыха, комитет комсомола и дирекция института оказывали периодически материальную помощь, освобождали от платы за общежитие. К праздникам и со стипендии, когда себя чувствуешь почти Крезом, мы всегда скидывались по трешке - пятерке для бедной Беллы, чтобы она хоть в праздники не была голодной. Наши сердца еще не зачерствели и были открыты для сострадания.
Теперь - история о моих первых в жизни наручных часах, средства на которые я заработал тоже первой сваркой на заводе. Напомню, эти часы подарили уставшему от службы сержанту из войск, нашему командиру, который, вместо атак и рытья окопов в раскаленном песке, уводил нашу группу в прохладную тень рощи. На деньги, собранные ребятами взамен часов, я не мог купить другие: их тогда не было в Киеве. Деньги, 420 рублей, чтобы не растранжирить, я положил на аккредитив, где они мирно почивали несколько месяцев. Мне очень недоставало прибора времени особенно теперь, когда я был связан с множеством людей и встреч, помимо лекций и учебы. Все товарищи знали о моей беде и помогали искать. И вот поступил долгожданный сигнал: в магазин на Воздухофлотской привезли партию часов! Я немедля ринулся в город. Ближайшая попутная сберкасса находилась на Керосинной, куда я и прискакал на трамвае. В сберкассе была небольшая очередь, и я внедрился в ее хвост «крайним». За столиком что-то писала Белла Сандлер, мне показалось, - испуганная моим появлением. Уже подошла моя очередь, когда кассир сберкассы подала громкий призыв: «Девушка, ну где же вы? Все ваши бумаги давно готовы!». Призыв относился к Сандлер, и она вынуждена была подойти к окну кассира прямо передо мной. И тут я понял причину ее испуга и долгого сидения за столом: она тянула время, чтобы я получил свои «часовые» и успел «отвалить». Получилось все «с точностью до наоборот»: я оказался так близко, что мог проследить операцию от начала до конца. В те жестокие времена грабителей было мало, денег - тоже, и вся деятельность сберкасс происходила на виду у народа, отделяясь от последнего только метровым барьером с узкой полоской стекла.
Зрение у меня даже теперь неплохое, тогда же я мог читать, кажется, любой текст на любом расстоянии и в любом положении. То, что я увидел и прочел, лишило меня дара речи. Бедная-бедная, просто нищая, - Белла Сандлер, которой мы, стипендионные Крезы, скидывались на черный хлеб, вносила 10 000 (десять тысяч) рублей на сберкнижку, на которой уже было более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
Откуда такие деньжищи??? Тогда в магазинах стояли в продаже автомобили «Победа» по 9 тысяч рублей. Это для большинства обычного народа были безумные деньги, и машины пылились: не было спроса, точнее - денег, еще точнее - легальных денег. Заработать столько, чтобы положить на сберкнижку около 40 тысяч рублей, было невозможно, даже супернародным артистам, тем более, - таким «прелестницам», как наша ободранная Белла. Их можно было только украсть, добыть аферой, причем способами, не оставляющими никаких следов, иначе тобой немедленно занялись бы «компетентные органы». И сама по себе Белла, только маленькая часть, пылинка, чего-то очень большого. И если «пылинкам» достаются такие куски, то сколько же имеют заправилы этой, несомненно, - подпольной, организации?
Это был момент истины. Меня, и не только меня, нагло и цинично обманывали. Это я, истинный нищий, заработавший тяжким трудом свои гроши, подавал милостыню миллионеру, одетому в рубище нищего. Мне плюнули в душу, показав, кто истинный хозяин в этой жизни.
Часы себе я купил. Теперь они были просто очень нужным, хотя и не самым дешевым, наручным прибором времени. Вторые в моей жизни часы почему-то перестали быть любимым и тайным предметом моей гордости.
А теперь уже можно рассказать о малозаметной записи в моем деловом блокноте секретаря КСМ бюро факультета: 30. 10. 51. Бюро сорвалось из-за отсутствия аудитории. Поставить вопрос перед комитетом. Бюро собрать в четверг 01. 11. 51. Вопросы - те же.
Признаюсь, - это я умышленно сорвал бюро, которое собирал и которым руководил.
Накануне меня вызвали в комитет комсомола института. Институтский КСМ секретарь Шлюко учился на металлургическом факультете и был гораздо старше нас. Шлюко воевал, был офицером, несомненно, - членом ВКП(б): на такие важные должности просто комсомольцев не назначали. Должность эта выборная, конечно, но я не оговорился: никакие выборы «на самотек» тогда не «пускались». Думаю, что сейчас этот «самотек» тоже не допускают, изменились только методы «регулирования свободного волеизъявления». Вот о влиянии на свободу в комсомольских выборах и пойдет дальше речь.
Шлюко принял меня в своем обширном кабинете с глазу на глаз, усадил меня напротив, и вперил в меня строгий взгляд. Я сидел спокойно, ожидая вопросов или ЦУ.
- На твоем факультете должны начаться выборы комсоргов групп и курсовых комсомольских бюро, - начал Шлюко, не мигая, и глядя мне прямо в глаза. (В комсомольской среде «партайгеноссе» по неписаным правилам обращались друг к другу на «ты»).
- Да, на следующей неделе. В курсовые бюро еще в прошлом году, с согласия комитета института, мы должны избрать только по три человека: на курсе всего по две группы.
- Хорошо, раздувать штаты не надо, - согласился Шлюко. Ты на бюро уже утвердил рекомендуемые кандидатуры комсоргов групп и курсов?
- Еще нет. Скоро соберу бюро для этого.
- Так вот. Ты лично должен обеспечить, чтобы комсоргами групп и курсов были избраны только лица основной национальности, не афишируя это, - Шлюко чеканил каждое слово, пристально и сурово глядя мне прямо в глаза. - Понятно?
Мне было непонятно. Свое непонимание я изобразил вопросительным взглядом.
- Ну что здесь непонятного? - уже смягченно, слегка удивился секретарь. - Мы где живем? На Украине. Значит, люди основной национальности - кто? Украинцы и русские. Теперь понятно?
Теперь стало почти понятно, хотя определения того, кто не должен был стать комсоргом групп, не прозвучало. Мы - дети своего времени, читаем газеты и слушаем радио о тайных и подлых делах врачей-вредителей, знаем также их национальность. Кроме того, в институте просочились неведомыми путями слухи о разделении радиофака на два, почти одинаковых. Факультет потребовалось «засекретить», в связи с тем, что студентам надо было изучать новейшие секретные устройства и технологии, касающиеся напрямую безопасности страны. Это не смогли сделать, так как около 60% студентов оказались лицами «не основной» национальности, имеющей уйму родственников и других связей «за бугром». Лично мы несколько дней назад были потрясены открытием истинного лица одной беднейшей студентки. Да, теперь стало понятно. Я откланялся, слегка озабоченный. Увы: заботы мои были не о том, зачем это надо делать, а только о том, как это сделать.
Рекомендуемые кандидатуры комсоргов групп и курсов должны быть обсуждены и утверждены на бюро факультета. А в нашем бюро из семи человек людей «основной национальности» было только двое: Миша Дрыга и я сам. Два человека, лучший друг Коля Леин и моя воздыхательница Инна Ляховая, -«гибриды», остальные, в том числе мой товарищ Полина Трахт, - «не рекомендуемой» национальности. Поэтому полностью открыть нашу задачу в руководимом мной «органе» я смог только Мише Дрыге. Мы вдвоем тщательно перебрали списки всех групп и выбрали людей, которых мы вдвоем будем рекомендовать на бюро, чтобы оно, бюро, рекомендовало их к избранию в группах. Таковы законы «свободных» комсомольских выборов. Этот выбор кандидатов для нас был весьма трудным: люди «основных национальностей», к сожалению, редко блистали отличной учебой или общественной активностью, тем более - их сочетанием.
Бюро 30 октября 1951 года я назначил по необходимости на поздний вечер: часть курсов занималась во вторую смену. Собрались все. Пустых аудиторий в это время было достаточно. Вопрос один: о выборах комсоргов в группах. Начинаем с первого курса. Комсоргами там мы рекомендуем, скажем, Иванова и Петренко. Первый курс никто не знает, рассчитал я, и с предложенными кандидатурами бюро согласится. Однако выступает член бюро Лазарь Адамский, который закреплен от бюро за первым курсом. Он уже детально познакомился с первокурсниками и аргументировано возражает. Иванов уже успел «сачкануть» семинар по ОМЛ, заваливает черчение. Петренко туго соображает, неизвестно, как он вообще прошел сито вступительных экзаменов. Лазарь предлагает рекомендовать к избранию Либермана, медалиста киевской школы, которого он давно знает также как очень активного общественника и отличного парня. Комсоргом другой группы Адамский предлагает Вайнштока, характеристики которого почти идентичны либермановским. Я возражаю. Во-первых, по моим наблюдениям, школьные медалисты чахнут в институте (сам Лазарь, круглый отличник там и тут, легко опровергает мой тезис); во-вторых, - такие люди, как Иванов и Петренко, быстро растут и выпрямляются под грузом принятой на себя ответственности. Разгорается всеобщий теоретический спор об ответственности, учебе, общественной активности и прочем. Время идет. Лазарь спохватывается: «Ну, что мы спорим? Давайте проголосуем!». Голосуем. За Иванова голосуют три человека: Дрыга, я и Ляховая, которая зачарованно смотрит мне в рот. Все остальные - за Либермана. Против Петренко голосует даже Ляховая. Большинством утверждаются Либерман и Вайншток. Заседаем уже около часа, и я объявляю технический перерыв на 10 минут: надо перекурить и все такое прочее. Закуриваю прямо в безлюдном коридоре и быстро иду к главному входу. Там дремлет дед-вахтер, дожидаясь, когда все запоздалые покинут главный корпус. Я без обиняков обращаюсь к нему: «Вы можете выключить свет во всем правом крыле? Выключайте! Очень надо!» Деду не терпится закрыть корпус, чтобы заняться чаепитием и поспать, поэтому он радостно выполняет мою просьбу-предписание. Правое крыло главного корпуса погружается во мрак. Ощупью добираюсь до комнаты нашего заседания и объявляю, что света уже не будет, а бюро переносится на ближайшие дни.
Уныло совещаемся с Мишей. Мы потерпели полное фиаско даже на двух группах первого курса. На старших курсах, где хорошо известно, «кто есть ху», наше положение почти безнадежно. Приходим к простому выводу: без участия «широких масс», мы блистательно завалим порученное дело. Разрабатываем тактику привлечения этих самых широких масс, намечаем своих «агентов влияния», распределяем все группы только на двоих.
Второго заседания бюро по выдвижению кандидатур я так и не собрал. Список, намеченный только мной и Дрыгой, я понес в комитет показать Шлюко. У меня еще оставались какие-то сомнения, и я их решил прояснить до конца. Ведь «прямое слово» не было нигде и никем не произнесено. А что если все это плод моей возбужденной фантазии? Я передал список Шлюко со словами:
- Тут по группе ЗВ – 9 мы наметили оставить прежнего комсорга - Цезария Шабана. Но он - поляк.
- Ну и что? - удивился Шлюко.
Вот теперь все стало ясно. Этот короткий вопрос был равен длительной лекции. Отныне поляки, волей Главного Комсомольца Политехнического института, наравне с русскими и украинцами, вошли в число основных национальностей, проживающих на Украине.
Утром начинаем работать. По три – четыре человека из группы вызываются в деканат: по одной группе на каждой переменке. Там происходит один и тот же разговор, с одной и той же, усвоенной в комитете, интонацией:
- У вас скоро будут выборы комсорга группы и курса. Мы живем на Украине и комсоргами должны стать люди основной национальности, - русские и украинцы. Афишировать нашу позицию мы не имеем права, поэтому объясните это своим близким друзьям…
- А, бей жидов, спасай Россию, - откликались особо понятливые.
- Я вам этого не говорил, - сурово предупреждал я зарывавшихся.
Большинство молча усваивали требования, и уходили, на ходу соображая, что и кому можно сказать и что сделать. Точно так же поступил и я в комитете института. Об отказах и, тем более, - возражениях, не было и речи.
На переменке меня схватил за пуговицу Лазарь Адамский и с тоской спросил:
- Коля, скажи мне, что, – есть указание евреев в комсомоле не избирать?
-Лазарь, я тебе ничего не могу сказать по этому вопросу, - неопределенно пожал я плечами. Конечно, у него осталась неясность, отчего я «ничего не мог сказать»: ничего нет, ничего не знаю, ничего не хочу говорить, ничего не могу говорить. Врать я не особенно умею, а правду сказать - не имел права.
Выборы на факультете прошли на удивление гладко и спокойно. Только на втором курсе в состав курсового бюро вошло 1 (одно) лицо «не основной национальности».
Тогда мной владели «смешанные чувства», как у человека, наблюдающего падение в пропасть тещи на его собственном автомобиле. С одной стороны: на моем участке фронта я неплохо выполнил порученную мне очень непростую работу. Сумма таких работ позволяла руководству страны (или кому?) прижать многоголовую и вездесущую гидру. Что гидра существует, - я теперь знал точно. С другой стороны: работа была довольно подлой и грязной по отношению к моим друзьям «не основной национальности»: бригадиру Веркштейну, учившему меня премудростям слесарного мастерства, верной Молке, таскавшей тяжелые ящики зерна с точным счетом, и, конечно, - по отношению к близкому другу, беззаветному трудяге и справедливому человеку Коле Леину… Каким, все же, надо быть осторожным, выбирая себе родителей!
В дальнейшей жизни у меня набралось много фактов и событий - хороших и плохих общения и работы с людьми «не основной» национальности; хороших было гораздо больше. Вчера, во время работы над этими страницами, из Израиля нам позвонил мой друг Леня Лившиц. Мы оба были очень рады общению. Нерадостная весть: наша любимица Валерия сломала ногу и сейчас сидит в гипсе, Сколько же страданий выпало на долю этого талантливого человека! Нам всегда очень ее не хватает: на любой вопрос был ответ у этой полупарализованной девушки с энциклопедическими знаниями…
Наш хлеб - расплавленный металл.
Мы в институте все больше изучаем наши основные сварочные дисциплины. Их неожиданно много: дуговая сварка, теория сварочных процессов, тепловые процессы, электросварочные машины и аппараты, автоматическая сварка, контактная сварка, сварные конструкции, газовая сварка и резка, контроль швов, пускорегулирующая аппаратура, проектирование сварочных цехов, организация производства. Почти все предметы сопровождаются лабораторными занятиями, курсовыми проектами и, конечно, практикой.
Лекции по дуговой сварке нам читает К. К. Хренов - громоздкий пожилой мужчина со слегка отрешенным взглядом светлых, слегка на выкате, глаз. Хренов - самый титулованный наш преподаватель: академик, лауреат Сталинской премии. Премию он получил в 1946 году за разработку подводной сварки и резки металлов, которая особенно нужна была в годы войны. Хренов по образованию - электрик, поэтому он нам читает также курс по источникам питания. Его речь по профессорски округла и точна, но без всяких эмоций, что слегка убаюкивает тех, кому эти материи не очень интересны.
(Я уже слегка набил синяков и шишек на сварочной стезе, и мне все интересно. Почему, например, мой сварочный генератор на заводе самовольно менял плюс на минус и наоборот, что резко ухудшало качество сварки? Такое было ощущение, что ты разучился варить. В конце концов, тогда я понял, отчего ухудшается сварка, и просто менял местами клеммы кабелей. Теперь я понял, почему так происходит, и как этого избежать проще).
Нам читают лекции и проводят практические занятия М. Н. Гапченко, М. М. Борт, Л. А. Бялоцкий, смешливый Жора Васильев (поэтому его отчество не запомнилось, - а читал он нам очень нужный курс пускорегулирующей аппаратуры).
Несомненно, самой колоритной и любимой личностью на факультете среди преподавателей был Дед - доцент Иван Петрович Трочун. Вскоре он стал деканом нашего факультета, сменив на этом посту Гапченко, уехавшего, кажется, к китайцам. Наш Дед внешне очень смахивал на хитроватого колхозного «дядька». Одевался он соответственно, например, галстук на нем казался совершенно чужеродным предметом, надетым по приказу свыше и глубоко чуждым своему носителю. Обширную лысину обрамлял венчик волос непонятного цвета. Поверх очков смотрели в упор глубоко посаженные темные глаза.
И. П. Трочун читает нам теорию сварочных напряжений и контактную сварку. Сварочные напряжения – самая тайная и глубокая наука нашей профессии, недоступная и непонятная дилетантам. Только ее понимание может предотвратить многие, кажущиеся непонятными, аварии и катастрофы. Примеры, приводимые лектором, наглядны и потрясающи, его пояснения – глубоки и понятны. Наш факультет потихоньку разворачивают на кораблестроение: именно там наибольшее количество сварки и аварий, связанных с ней.
Очень красноречивы примеры американских кораблей «Либерти», названных у нас позже лидерами типа «Ленинград». Широко применив сварку, американцы совершили подлинную революцию в судостроении. Цикл постройки судна водоизмещением 4600 тонн от закладки до выхода в море составлял всего 22 дня! Большинство грузов по лэнд-лизу Америка доставляла в СССР крупными конвоями судов «Либерти» в северные порты СССР в Баренцевом и Белом морях. Вскоре, кроме боевых потерь, «Либерти» стали нести непонятные технические потери: при полном штиле суда внезапно разламывались пополам и тонули, либо на корпусе появлялась огромная трещина от палубы до киля. Более поздние исследования объяснили причины этого явления: виновата была в первую очередь неправильная технология сварки, не учитывающая возникающих собственных напряжений! ИПТ наглядно показывал нам зарождение и влияние этих напряжений, избегая заумных формул, понятных только создателям – соискателям ученых степеней и званий…
Но главным отличием нашего Деда была его «вне лекционная» речь, состоящая из коротких и рубленых предложений. По краткости и афористичности речи Дед намного превосходил прославленного позже златоуста Черномырдина.
Вот несколько запомнившихся пассажей нашего деда. При объяснении многоэтажной формулы по теплопередаче в металлах (многоэтажная формула изобиловала частными производными, всеми тригонометрическими функциями, логарифмами – натуральными и десятичными и занимала целую страницу книги). Самое интересное в том, что применяемые в этой супернаучной формуле коэффициенты были весьма произвольными и эмпирическими, что ставило под сомнения всю научную ценность расчетов по этой формуле. Дед поясняет формулу:
– Ну, прочитаете в книжке. Бумага все выдержит… Жулье от науки тоже хочет кушать…
При чтении лекции ему помешал шум: это Владик Крыськов что-то оживленно обсуждал с Мариной Георгиевской.
– Крыськов! Вы и ваша подруга. Пересядьте. Впрочем, – выйдите.
Крыськов и «подруга» молча покидают аудиторию: Дед не терпит пререканий. На переменке Владик подходит к деду:
– Иван Петрович, за что вы меня выгнали?
– Так оно, как говорится, здесь половину надо бы выгнать…
Рухнула где-то конструкция из-за грубой ошибки инженера. Мы разбираем этот случай на лекции. На недоуменный вопрос: «Как же так? Этот человек ведь КПИ окончил!», Дед философски отвечает:
– КПИ многие кончают…
Наш Дед особенно раскрывается в узком кругу «приближенных», точнее – тех, кому он доверяет. Это Юра Яворский, еще пару человек. Я тоже вхожу в число этих приближенных, уж не знаю почему. Дед берет журнал и начинает по алфавиту обзор «вверенного личного состава».
–« Б..н»… Ну, это, вообще, глупо-тупое животное. «Б..», «В…»… Здоровые ребята, кулаком могут дверь вышибить, а дрожат… Чего дрожат? «Х» – готовая домохозяйка, но теперь с дипломом будет... Он ей нужен? «У» – хитрости больше, чем ума… «Z» – ну, этот проползет в любую щель, и мылом не надо намыливать…
Характеристики Деда при всей краткости – убийственно точны. «Нормальных» ребят и присутствующих Дед тактично обходит.
Наша «вне учебная» встреча с ИПТ произошла через несколько месяцев после окончания института. Под Новый 1955 год вечером в нашу комнату в общежитии на Стачек 67 заявляется Дед «в масштабе один к одному». В комнате проживает четыре человека, в том числе – Ю. Попов и я. Дед приехал в Ленинград, на какой-то семинар, и оказался без жилища. Он смиренно просит нас предоставить ему таковое на одну ночь. Мы от радушия чуть не выскакиваем из своих штанов:
– Иван Петрович! Какие могут быть разговоры! Вот Павка уходит, его постель в вашем распоряжении! (Павка Смолев, техник с завода Жданова, будущий Главный строитель реконструкции крейсера «Аврора»).
Дед с достоинством принимает наше приглашение. Мы с Юркой выскакиваем в коридор на совещание: дорогого гостя надо достойно принять, но у нас хоть шаром покати. К концу месяца в общежитии ИТР судостроителей и занять не у кого: все свои получки растягивают максимум на первые полмесяца, затем «перебиваются». Дед по непонятным признакам мгновенно оценивает ситуацию и достает бумажник:
– Ну, молодому легче бегать…
Юрка без зазрения совести хватает четвертной и устремляется за хлебом насущным, в котором водка занимает изрядную долю. Через полчаса у нас пир горой. Мы рассказываем Деду о наших достижениях, он кратко повествует о возне в стане «жуликов от науки». Среди всех разговоров Дед смущенно признается:
– У меня здесь друг живет… можно было бы и у него переночевать, но он в командировке. Жена – одна – неудобно… Ей, конечно, 60 лет… Все равно – неудобно…
Подогретые халявной водкой, мы ржем от кажущейся нам чрезмерной щепетильности нашего Деда. В наши 20 с небольшим, мы твердо уверены, что после 50 лет мужиков и баб уже можно мыть в одной бане…
Следующее, увы, – последнее, наше свидание с Дедом прошло в 1965 году в Киеве на праздновании 10-летия нашего выпуска. Дед был грустным, болел, видно, предчувствовал близкий конец… С гордостью за нас и тихой завистью наблюдал он за нашим, все еще молодым, буйством…
Ассистент Л. А. Бялоцкий нам тоже что-то читал, уже и не упомню – что именно. Это был крупный упитанный мужчина с шапкой курчавых рыжеватых волос над красноватым лицом со светлыми навыкате глазами. У него что-то не заладилось с защитой диссертации, и он в гордом звании «ассистента» был допущен к преподаванию. Его лекции были весьма ординарными, скучными и не остались в памяти. Пишу о нем потому, что он был также секретарем факультетского партбюро, то есть, по умолчанию – моим непосредственным идейным вдохновителем и начальником как «генсека» факультетского комсомола. Руководил он мной так же вязко и пунктуально, ни на иоту не отступая от последней передовой «Правды». Когда он потребовал от меня «поднять уровень сознательности комсомольских масс» (такое требование на текущий момент было в передовой статье «Правды»), мне следовало верноподданнически закатить глаза и заявить примерно так: «Да, конечно, Лев Александрович, – я тоже чувствую, что мы тут не дорабатываем, особенно в свете последних Решений Партии. Позвольте мне заглянуть к Вам для согласования плана мероприятий по данному вопросу, который мы хотим разработать на бюро…». Бялоцкий бы сыто рыгнул (делал он это с блеском), и милостиво разрешил бы аудиенцию, а я бы подшил в папку очередную глубоко бесполезную бумагу, и успешно двигался бы вверх по партейно-служебной лестнице, уже теперь мог бы стать Сталинским стипендиатом, как «исполнительный», «преданный делу партии» и т. п. – человек. К сожалению, я человек очень не выдержанный, испытывающий постоянный цейтнот, к тому же – отягощенный подлинными заботами и проблемами своих избирателей. Я впадаю в холодную ярость и от идиотизма поставленной задачи и от формы ее постановки. «Куда и как ее поднять?», – сдерживая эмоции, деловито задаю я «простенький» вопрос, предлагая тем самым «фюреру» самостоятельно составить план требуемых мероприятий. Ему это, конечно, не по зубам: он руководит «вообще». Бялоцкий осуждающе смотрит на меня и величественно удаляется: дескать, задача сформулирована и поставлена, теперь ее может выполнить любой дурак.
Трения постепенно нарастают из-за моего упрямства и нежелания играть в эти игры. На помощь Бялоцкому приходят другие члены партбюро; меня начинают «воспитывать». К концу четвертого курса комсомольское и партийное «бюры» на грани холодной войны. К счастью, меня «снимают» по другим причинам: на 5 курсе уже быть генсеком «не положено»: надо заниматься дипломным проектом.
Взгляд из партийного будущего. Несколько лет я был аполитичным и абсолютно счастливым человеком. Из комсомола я выбыл не то по возрасту, не то из-за неуплаты членских взносов, короче – незаметно. Затем меня, как передовика и орденоносца настойчиво пригласили в КПСС, затем избрали в партбюро. История повторилась: я восстал при «партийных» пытках моего лучшего прапорщика, после чего был опять низвергнут до состояния «рядового».Последний раз меня «прорабатывали», когда я сдал партбилет, обвинив верхушку КПСС в развале великого государства – СССР, на укрепление могущества которого я потратил всю активную жизнь. Видать, по умолчанию: – не могу я «колебаться вместе с линией партии»…
В овечьей шкуре.
В конце третьего курса ко мне обратился Миша Шовкопляс с «маленькой» просьбой: сдать физику на вступительном экзамене в Киевскую сельхозакадемию. Его односельчанин, друг и даже родственник поступал туда на заочное отделение. Когда-то давно он окончил техникум пчеловодства, неплохо разбирался в сей, очень непростой, науке. Труба позвала его на повышение и потребовала высшего образования, во всяком случае – справки о пребывании в звании студента-заочника. По всем предметам он готовился, их более-менее знал, а вот по физике ожидал полного краха.
– Ну а сам-то, что? – спросил я.
Миша отшутился на тему: «Папа может, но бык – лучше». Миша воевал, все школьные науки у него выветрились давно, хотя благодаря трудолюбию и упорству в институте учился неплохо. «Врага уничтожить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь». Конечно, я согласился: друг моего друга – мой друг. Начали договариваться о деталях. Фотографию Ивана Лавриненко на зачетной книжке, изготовленную сельским умельцем, без особой натяжки можно было признать моей, хотя Иван был на несколько лет старше. Вдохновенный труд сельского фотографа значительно упростил нашу задачу: мы не совершали уголовно наказуемого подлога важного документа.
С большим трудом я добыл учебник Фалеева и Перышкина (помню!) для средней школы, чтобы не вякнуть нечто, чего по молодости лет я еще не должен был знать. Кое-что прочел с интересом: почему-то этого я раньше не знал. Свое образование я завершил к назначенному сроку и, первым сдав свой экзамен, проехал весь Киев от Святошино до Голосеево, где встретился в условленном месте с Иваном. Он был расстроен: экзамен по физике перенесли на другой день, а сегодня его группа сдает химию.
– Может быть, ты сможешь сдать химию? – с робкой надеждой спросил Иван.
Химию мы уже закончили в предыдущем семестре, к химии я не готовился… Но я вспомнил о длинной обратной дороге с унылым чувством «не солоно хлебавшего» и решил рискнуть экзаменом Ивана: «Может быть, – прорвемся!» – успокоил я не столько Ивана, сколько себя. Иван наложил еще одно, очень тяжелое ограничение. Оказывается, среди преподавателей Академии был один, который лично знал всех Лавриненков, в том числе – Ивана, как облупленных.
– Какой он из себя? Как выглядит? – спросил я Ивана.
Из сбивчивых и противоречивых описаний я уловил только, что наш враг – «солидный». При его обнаружении, я должен был немедленно ретироваться, даже во время сдачи экзамена. Новая вводная не добавила мне оптимизма, но отступать было уже поздно, и, с благословения моего клиента, я отправился то ли в ад, то ли в чистилище.
Ад выглядел как большая аудитория с расположенными амфитеатром деревянными партами. Несколько человек были разбросаны по всему помещению и сосредоточенно грызли карандаши и морщили лбы, готовясь к ответу. За столом внизу у доски сидела усталая женщина, принимая экзамен. Я предъявил книжку, вытащил билет и направился готовиться.
Выбрал себе третий ряд вблизи от входных дверей, чтобы сразу улизнуть после появления врага. Рядом сидел и напряженно соображал кругленький человек средних лет в полувоенном френче, который как форму тогда носили «ответственные работники», хромовых сапогах и галифе, с побритой до синевы головой, которого я мысленно обозначил как директора совхоза. У него были какие-то шпаргалки, очевидно – чужие, так как он безуспешно их листал, пытаясь найти ответ на билетный вопрос.
Пробежал свой билет, вопросы показались несложными, кроме одного; реакция – обычная: окислительно-восстановительная. Написал краткие тезисы ответа и уравнение-реакцию. По «темному вопросу» я знал тоже все, кроме формулы суперфосфата. Решил за помощью обратиться к «директору совхоза»: уж он то должен знать от чего произрастают булки.
– Формулу суперфосфата знаете?
– Сейчас найду, – откликнулся «директор» и озабоченно начал шебуршать шпаргалками. Вскоре я понял, что он ничего не найдет.
– Ну, черт с формулой, – прошептал я. – Все остальное я знаю.
Последние слова явно заинтересовали моего соседа, и, свернув свои шпаргалки, он приник к неожиданному источнику информации.
– Что такое «амфотерность» знаешь?
Я знал. Объяснил, привел примеры, которые он радостно записывал. Разобрали потихоньку и другие вопросы. Исправил ему уравнение реакции: у него из обычных реактивов получалось соединение, тянувшее своей новизной на Нобелевскую премию. Сосед приободрился, моя помощь была весьма своевременной.
Сдача экзамена за столом у доски проходила очень медленно. Солидные ученики пороли такую чушь, что преподавательница, очень усталая и добросовестная женщина, просто задыхалась. Она пыталась навести их как-нибудь дополнительными вопросами, фактически – подсказками, на верный ответ. Однако семена ее подсказок попадали на слишком каменистую почву и не давали никаких всходов, что ее просто убивало.
Между тем дверь аудитории открылась. В образовавшуюся щель вплыл объемистый живот, за ним последовал «солидный мужчина». Я напрягся: не мой ли вражина? Но тут же, по мелким шагам к столу и заискивающей улыбке, определяю его как очередного «директора», сдающего химию и временно успокаиваюсь. Следующих входящих я уже определяю не по объему туловища, а по его наклону и размеру шагов, что быстрее и точнее.
Подходит очередь моего соседа. Он просит меня пойти первым, чтобы еще подумать. Отправляюсь к усталой преподавательнице: долго сидеть мне опасно. Коротко отвечаю на первый вопрос. Следует дополнительный. Отвечаю так же коротко. Доходит до фосфора, в том числе и суперфосфатов. Отвечаю так же скупо.
– Какие кислоты образует фосфор?
Называю и пишу формулы. Экзаменаторша просто оживляется, усталые глаза загораются радостью. Дополнительные вопросы она теперь задает не из желания что-то подсказать: ей просто приятно общаться с человеком, который понимает ее химию.
– Для чего нужны фосфаты? Из чего производят суперфосфат? Где в СССР есть месторождения апатитов?
Добираемся до реакции. Она просматривает уравнение: оно верно.
– А если вместо этого взять вот такое соединение?
– Реакция не пойдет: у нас два окислителя.
Еще несколько вопросов и ответов. Совершенно счастливая женщина выводит на моем экзаменационном листе жирное «отлично». Я тоже счастлив, забираю лист, прощаюсь и бодро выхожу из аудитории. В коридоре из-за угла на меня бросается заждавшийся Иван.
– Ну, как? – с робкой надеждой спрашивает он.
– Отлично, – с гордостью заявляю я.
– Нет, какая оценка?
– Я же говорю – отлично, – передаю Ивану экзаменационный лист. Иван вглядывается в оценку на бумаге со своей фотографией; его лицо вытягивается и бледнеет.
– Ты что наделал? – трагическим голосом спрашивает он. Я смотрю на него с немым вопросом, не понимая.
– Здесь из сотни сдававших только две четверки, десятка полтора троек, остальные – двойки!!! Теперь вот – одна пятерка… Мной же заинтересуются!!!
До меня начинает доходить весь ужас содеянного и невозможность пересдачи на другую оценку. Оправдываюсь: откуда мне было знать, что директора и главные агрономы так плохо знают химию? В конце начинаю утешать Ивана: ну, приналяжешь и выучишь, в конце концов, эту химию, – не так уж много должны знать школьники. Иван уныло качает головой: ему теперь химию придется изучать самостоятельно и очень хорошо изучать…
После двух экзаменов и броска через весь Киев я проголодался, и Иван кормит меня комплексным обедом в студенческой столовой. Продолжаем разговор. Основного дела то я не сделал: физики не сдал. Договариваемся о следующей сдаче. Иван с опаской глядит на меня:
– И не вздумай получить больше четверки!
Я виновато, но твердо обещаю исправиться.
В назначенный день Иван ведет меня к физическому кабинету, где поступающие сдают физику. Там уже огромная очередь. Скромно стаю в нее последним. Ко мне подкатывается мой единственный знакомый «директор», с которым мы вместе сдавали химию.
– Физику знаешь?
Я молча показываю большой палец. Директор берет меня за руку и бесцеремонно раздвигает животом очередь.
– Лавриненко идет со мной, – небрежно объясняет он недовольным.
Вскоре мы оказываемся в кабинете и берем билеты. Экзамен принимают двое: суровый мужик и симпатичная молодая женщина. Перед женщиной сидит сельский атлет с выпирающими буграми мышц и красным от непривычных умственных усилий лицом. Вслушиваюсь в их разговор, длящийся уже довольно долго.
-- Вот вы взяли стол и передвинули его на другое место. Какое действие вы совершили?
– Ну, я приложил… напряжение!!! – выдавливает из себя Геркулес, краснея еще больше. Женщина представляет себе это «напряжение» и снисходительно поправляет:
– Вы приложили не напряжение, а силу… Ну, вот вы этой силой передвинули стол на какое-то расстояние. Какое действие вы совершили?
– Я совершил… напряжение! – силач явно зациклился на научном слове «напряжение», другие слова он начисто забыл.
Женщина какое-то время отдыхает, но, уразумев, что из «напряженной» колеи ее ведомый самостоятельно не выберется, устало говорит:
– Передвинув стол, вы совершили ра-бо-ту!
– Ну!!! Конечно!!! – Геркулес восторженно вскакивает с явным намерением немедленно совершить это действо со всеми столами аудитории, чтобы показать, насколько ему стало понятным определение «работы».
Экзамен продолжается. Смотрю на своего подшефного директора. Кажется он в нокдауне.
– Что такое земной магнетизм? – сдавленным шепотом вопрошает он меня. Объясняю таким же шепотом. Вижу – не понимает. Говорю ему:
– Записывай, там – просто прочтешь!
Диктую ему в формате Детской энциклопедии «Хочу все знать» ответы на все вопросы его билета. Директор, к счастью, пишет быстро. Имея все ответы по билету, он смог оценить окружающую обстановку и даже характер экзаменаторов:
– Пойдешь к мужику! – он бесцеремонно навязывает мне свою волю.
Я согласно киваю и выхожу к месту казни, – «к мужику». Запинаясь и спотыкаясь, но довольно внятно отвечаю на первый вопрос билета. С такой речью пятерки мне не видать, как своих ушей. Перехожу ко второму вопросу и начинаю ощущать зияющий пробел в своей подготовке: я не знаю, должны ли знать школьники понятие «вектор». Если нет, а я его произнесу, то Иваном Лавриненко действительно заинтересуются. Начинаю петлять, безбожно эксплуатируя золотые слова «ну», «вот» и другие, а также паузы.
– Ну… сила – это… она имеет… это… направление. (На этом месте вообще глохну).
– Что еще имеет сила, кроме направления? – неприязненно смотрит на меня «мужик».
– Ну… это… Кроме направления? Ну, что еще?... А… ну, это… величину, вот…
– И как все вместе это называется?
– Сила… имеет… это… величину и … как его… направление – тоже.
«Мужик» начинает звереть:
– Ну, сила! Ну, имеет! Ну – величину! Ну – направление! Ну – и как это все вместе называется???
Экзаменатор уже заразился моей лексикой и сейчас мне воткнет тройку или вообще «погонит». Выпаливаю:
– Сила является вектором: она имеет величину и направление.
Экзаменатор удовлетворенно кивает, и продолжает кивать дальше. «Опять иду на пятерку», – думаю я про себя и начинаю снова блеять и спотыкаться на ровном месте. Впервые в жизни я играю с экзаменатором как кот с мышкой, которая думает, что именно она является котом. В результате – получаю искомую «четверку». Иван встречает меня. Теперь он очень доволен и мы отправляемся в студенческую столовую кормиться за его счет. Стаем в хвост длинной очереди. Обнаружилось, что после сдачи двух экзаменов, я успел стать популярным. Ко мне подходят « директора» и «главные агрономы»:
– Ну, ты молодец, Лавриненко, поздравляем!
Я принимаю поздравления, Иван смущенно согнул шею в очереди впереди меня. Вдруг меня пронзает током: на несколько человек перед нами в очереди скромно стоит директор Деребчинского сахарного завода Кравченко, который знает меня, «как облупленного». У него красавица дочка Галя; вокруг нее на каникулах вьется вся деребчинская студенческая тусовка. Папа охотно принимает и знает всех студентов: кто, где и как учится. Стоит ему повернуться, и он очень удивится моей новой фамилии и амплуа. Я хватаю руку Ивана и насильно вытягиваю его из очереди. Мы быстро уходим, не оборачиваясь, под удивленными взглядами моих новых друзей-товарищей. Только на улице Иван начинает понимать, какой опасности мы избежали. Уезжаю, не солоно хлебавши: другие пищеварительные учреждения в Голосеево нам не ведомы. Дальше Иван должен сдавать сам. Он обещает после поступления прийти к нам в общежитие, чтобы отпраздновать это событие. Но я вскоре уехал на практику и Ивана больше не видел. Ау, Лавриненко! За тобой комплексный обед: первое, второе и – это обязательно – компот!!!
Технические нестыковочки на стыках.
После третьего курса у нас первая производственная практика по основной сварочной специальности. Теоретически мы должны вникнуть, интересоваться, работать над собой и над материалом. Практически: после всех наук надо отдохнуть, оглядеться, собраться с силами.
Несколько человек из нашей и параллельной группы на практику направлены на киевский завод «Ленинская кузница», в просторечии – «Ленкузня», или еще проще – «Кузня». Это старинный заводик, который тогда выпускал речные буксиры, баржи, небольшие речные же танкеры. Завод располагался совсем рядом с Днепром, лето было жаркое, и наша небольшая группа рассчитывала неплохо позагорать и отдохнуть за счет совмещения приятного с полезным. Однако вскоре мы оказались вблизи некоего технического Бермудского треугольника, который значительно сократил наши пляжные намерения
«Вверенный нашему развлечению» завод тогда имел особый статус негласного полигона патоновского Института Электросварки. Именно на этом «придворном» заводе отрабатывались в производственных условиях новые сварочные автоматы, технология, оснастка и изделия, особенно – листовые конструкции больших размеров. Корпуса танкеров и барж состоят фактически из больших сварных листов, на которые уже потом привариваются профили продольного и поперечного наборов, придающих прочность и жесткость всей конструкции. Еще большее значение сварка полотнищ из листов имеет для строительства огромных резервуаров и газгольдеров. Чтобы понять это, надо слегка углубиться в историю.
Резервуаров всегда требуется огромное количество, особенно для хранения нефти и ее производных. Строились резервуары всегда долго и трудно, даже после того как старинная клепка была заменена быстрой сваркой. Аварии первых сварных резервуаров, вызванных непониманием внутренних напряжений, неизбежно появляющихся при сварке, – это особая тема. К нашему времени конструкция резервуаров и технология сварки в основном уже была отработана. По классической технологии днище резервуара – стальной «кружок» диаметром 10 – 20 метров, – сваривался из отдельных листов на клетях, чтобы можно было подобраться снизу к сварочным швам: это нужно было для их контроля на плотность (непроницаемость). Листы сваривались внахлест, когда кромка одного листа ложилась на край другого. Только в зоне примыкания днища с будущей стенкой (уторный шов) вырезались «замки» и листы днища сваривались встык, чтобы образовать ровную поверхность, без уступов, возникающих в нахлесточных соединениях. Технология (особенно – последовательность сварки) была очень строгая. Если она нарушалась, то днище готового резервуара «вздыбливалось» буграми (т. н. хлопунами) высотой до 2 метров(!), что зачастую делало невозможным эксплуатацию резервуара.
Сваренное и проверенное на плотность днище опускалось на основание, после чего приступали к сборке и сварке цилиндрического корпуса. Стальные листы, размером 6 х 1,5 метров, толщиной от 4 до 10 мм и весом до полутонны, изгибались на вальцах до кривизны цилиндра корпуса, подавались наверх и приваривались в нужном месте. Работа чрезвычайно трудоемкая и длительная, причем, обычно – в полевых условиях. Вот цифры, позволяющие представить ее объемы. Резервуар 5000 кубических метров («пятитысячник») имеет диаметр более 20 метров, высоту – около 12 метров. Его металлоконструкции весят более 100 тонн; на их сварку требуется более 3500 кг высококачественных электродов и труд более 150 человеко-смен только дипломированных сварщиков. Трудозатраты монтажников и других рабочих будут почти на порядок больше: их задерживает также медленная сварка и ее контроль. Поскольку работы ведутся под открытым небом, в любую погоду и время года, то длительность работ еще увеличивается, а качество – снижается.
В Институте электросварки была разработана идея переноса основных объемов сварки в заводские условия. При этом сварка выполнялась автоматами – быстро и высококачественно. Изготовлялись большие полотнища, которые как лист бумаги сворачивались в рулоны. Вес и габариты рулонов ограничивались только условиями транспортировки. На монтаже рулоны днища (два или три) разворачивали и сваривали вместе. Рулон корпуса поднимался на днище «на попа» и разворачивался с одновременной сваркой уторного шва, т. е приваривался к днищу. Оставалось заварить вертикальный замыкающий шов и корпус был готов к установке крыши и всяких прибамбасов: люков, лестниц, дыхательной арматуры, противопожарных систем и др.
Так вот: чтобы позволить автоматам (сварочным тракторам) сваривать полотнища, на нашем заводе был установлен стенд потрясающих размеров и конструкции. На его площади вплотную друг к другу укладывались десятки листов, образуя страницу «в клеточку». Включались мощные электромагниты и кромки листов намертво «прилипали» к стенду. Подавался сжатый воздух и флюс поджимался снизу к свариваемым кромкам. Наступала очередь автоматов – сварочных тракторов. Четырехколесное чудо двигалось по стыку, насыпая впереди себя валик зернистого флюса. Проволока, подающаяся с кассеты на тракторе, где-то в толще флюсового валика, потрескивая мощной невидимой дугой, намертво соединяла кромки двух листов. Сзади трактора раструб отсоса собирал флюс опять в бункер; на шве оставалась только быстро темнеющая корочка расплавленного шлака. После сварки поперечных швов, автомат сваривал продольные. Отключались электромагниты и сжатый воздух, остывшая шлаковая корка легко скалывалась, обнажая ровную блестящую выпуклость сварного шва. Точно такая же выпуклость была снизу: ведь там был тоже флюс, поджатый снизу воздушным шлангом. К краю полотнища подсоединялись захваты, и идеально ровное полотнище с прямоугольной сеткой блестящих швов наматывалось на огромный барабан, готовый к отправке на монтаж.
Такую картину видели создатели стенда, и такой она могла бы быть, если бы… Наша группа участвовала в наладке и испытаниях стенда. Эта работа затянула нас, как игра – картежника, жаждущего выигрыша, как жаждущих в пустыне – мираж оазиса. Всему виной была несовместимость допусков по ГОСТу на размеры листов и допусков, требуемых для автоматической сварки.
Выкладывая листы на стенде надо было получить зазоры 2±0,5 мм между любыми кромками – продольными и поперечными. Это значит, что надо было иметь стальные листы с допусками на размеры в два раза меньшими, то есть – всего ± 0,25 мм. ГОСТ же допускал разброс ширины листов ± 5 мм (!), а по длине листа – вообще ± 20 мм! Но и это еще не все: когда мы с трудом подобрали несколько относительно одинаковых по размерам листов, то узнали еще об одном понятии: о ненормируемой «серповидности». Два рядом лежащих листа придвинуты друг к другу без зазора. Увы, «без зазора» получается только по краям листов. Посредине же между кромками зияет зазор около 20 мм! И это на «качественном прокате» из спокойной стали, которая применяется для резервуаров…
Вместе с рабочими и мастерами завода мы тщательно измеряем листы, чтобы найти хотя бы 4 одинаковых по размерам и без серповидности. Кое-что подгоняем шлифмашинками. Устанавливаем на стенд и свариваем желанное полотнище, увы, только из четырех листов. На нашем полотнище ярко блестит сварной шов в виде креста. Им можно было бы обозначить и наши рухнувшие надежды…
Нет худа без добра. Мы получили уроки: а) не все можется, что хочется; б) от малых причин бывают весьма важные последствия; в) прежде чем бухать в колокола, загляни в святцы. Разочаровавшись в передовых технологиях, мы с усердием приступили к отдыху на Днепре: там-то было все в порядке.
Горестный взгляд из будущего, и не только на технику.. Блестящая идея сворачивания сваренных на стенде полотнищ в рулоны – не умерла, а только трансформировалась, пойдя на поводу несовершенной технологии прокатчиков металла. Листы в полотнища стали варить внахлест, устранив этим безобразием безобразия металлургов. Дело в том, что нахлесточное соединение листов всегда хуже стыкового: оно слабее почти на 40%, ведет к перерасходу металла, повышает жесткость конструкции в рулоне, создает трудности при сборке. Однако преимущества автоматической сварки в условиях цеха с лихвой перекрывают эти недостатки.
В начале 60-х годов, на специально изобретенном и изготовленном стенде, я сваривал полотнища из листов нержавеющей стали. Это было нужно для монтажа рядом расположенных ответственных резервуаров: в них хранились жидкие радиоактивные отходы высокой концентрации. Требования к качеству сварки были очень высокие: 50% швов просвечивались. Мы сваривали листы встык по длинной стороне автоматом (трактором) под слоем флюса. Листы нержавейки короче «черных», допуски на размеры – жестче. О пагубной серповидности и речи не могло быть. Наш трактор «пахал как часы». Брака и исправлений у нас не было, хотя наш стенд был не таким шикарным, как на «Кузне».
Что касается точности изделий, то эта наша беда, увы, не изжита до сих пор, на чем страна несет неисчислимые потери. Из-за разброса характеристик элементов страдает и хромает вся наша техника: автомобили и электроника, сварка и строительство, – практически нет отраслей техники, где точность была бы избыточной. Поэтому мы предпочитаем иностранные автомобили и приемники. Даже этот текст набирается на компьютере, изготовленном где-то на Тайване…
Речь идет не только о точности размеров: имеется в виду точность соблюдения технологии. В сварке, например, точность изготовления электродов, самого массового изделия, значительно и напрямую влияет на качество и надежность самой распространенной ручной сварки. Дело в том, что обмазка электродов – сложная шлаковая система, количество компонентов которой доходит до нескольких десятков. Нарушение точности их дозировки или тонкости помола изменяет физические и химические свойства шлака, защищающего и легирующего металл шва. Обязательно что-нибудь ухудшается, часто – непоправимо. Ширина допусков на легирующие элементы в нержавеющих электродах, например, может безнадежно загубить конструкцию, изменив количество ферритной фазы в металле шва. Неточность и износ скоростных прессов, на которых изготовляются электроды, приводит к нарушению концентричности обмазки, что в ряде случаев вообще делает невозможной качественную сварку. (На профессиональном жаргоне – электроды «козыряют». Точнее, наверное, был бы иной карточный термин, типа «садятся на мизере» или «залезают на горку». Конечно, сварщики имеют в виду не козыри, а козырек).
Если посмотреть на наши электрические и электронные схемы, то почти всегда можно увидеть подстроечные резисторы, конденсаторы и т. п. Это означает, что разброс параметров элементов настолько велик, что только их компенсация может обеспечить работу конкретного изделия.
Вот еще один пример из несколько другой области. Новенький трехкулачковый токарный патрон проворачивался с большим трудом, что не позволяло его использовать. Пришлось разобрать его «до ниточки». Все размеры были правильные. Движению мешали незаметные заусенцы выдавленного металла, которые образуются при слишком большой скорости резания или при работе тупыми резцом или фрезой. С горечью вспоминаешь, что импортные изделия, даже менее ответственные, не требуют ручной доводки: они изготовлены с недоступной нам точностью и чистотой… А ведь в сложных технических системах, – самолетах, автомобилях и т п., работоспособность зависит от качества и точности деталей.
Отдельно нужно сказать еще об одной «неточности» – об отношении к природе и окружающей среде. Мы научились потихоньку жить на помойке – среди гор мусора, битых бутылок, выброшенных покрышек, холодильников и автомобилей. Леса беспощадно вырубаются, в оставшихся, вместо грибов, рассыпаны стойбища вандалов с остатками костров, изувеченными деревьями и горами мусора, обильно политыми отработанным машинным маслом.
Увы, все эти «неточности» и мерзости оказываются следствием человеческого фактора: разгильдяйства и безответственности каждого жителя нашей великой страны.
В конечном итоге – это все безобразие становится стилем нашей жизни во всем – от думских законов до поведения отдельно взятого бомжа. За сверхдержаву обидно…
Не знаю, сколько нужно времени, смен поколений, катаклизмов и потрясений, чтобы в нашем государстве изменился этот стиль. Очень хочется надеяться, что это произойдет до прохода через предельную точку, после которой возвращение стает невозможным…
Рука судьбы.
Практика на нашей «Кузне» уже подходила к концу. Разуверившись в возможностях отечественного листопрокатного производства, мы компенсировали технические неприятности близостью завода к Днепру, и начали славно проводить время на его берегу: купались, плавали и загорали, отметив на проходной свое прибытие. Начальство смотрело сквозь пальцы на наши художества: мы пытались, но не смогли решить проблему, имеющую всесоюзное значение.
В разгаре такой «практики» я вспомнил, что не отчитался по комсомольским взносам и выкроил время для посещения Комитета в институте. Решил там быстренько все вопросы и, пробираясь через толпы абитуриентов, направился к парадному входу в Главном корпусе. Прямо в вестибюле у меня глаза округлились от неожиданности: в институт входила моя знакомая деребчинско-винницкая малявка, с которой мы так резко расстались год назад на мосту в Виннице. Из первых слов выяснилось, что она в Киеве находится с экскурсией школьников, а сюда пришла, чтобы встретиться со мной. О моем местонахождении она знала только то, что я учусь в Политехническом. Сюда она и пришла, совсем не представляя, что в КПИ учится свыше 10 тысяч студентов, большинство из которых, в том числе я, сейчас находятся на практике в разных местах Советского Союза.
Если бы дитя знало все это и могло вычислить вероятность нашей встречи, оно никогда бы не явилось просто так в институт. У меня также была ничтожная вероятность оказаться у главного входа в институт именно в эти считанные секунды! Буквально несколько мгновений раньше – позже и мы прошли бы мимо друг друга, не встретившись. Не иначе: это была Рука Самой Судьбы.
Малявка за прошедший год выросла и еще больше похорошела. Яркая блузочка, запахнутая на высокой груди, оставляла открытыми руки, тронутые легким загаром. Из темной юбочки, обтянутой вокруг узкой талии, вырастали полные и стройные ножки в легких босоножках. На смугловатом матовом лице с классически правильным носиком все те же удивительные, широко распахнутые глаза.
Я забыл обо всех размолвках и несовершенстве характера этой малявки, о практике, о Днепре, где меня ждали ребята. Мы взялись за руки, и пошли бродить по цветущему Киеву, как будто расстались только вчера. Не помню, о чем мы говорили. Обо всем. О парках Киева и его домах, о цветах, о Деребчине, о том, что трамвай пойдет по синусоиде, если в провода подать переменный ток. Шутили, смеялись. Мы были счастливы, на мою спутницу оглядывались многие: она была удивительно хороша в расцвете юности…
Внезапно все изменилось. Такие резкие изменения я позже встречал в погоде на Новой Земле. Среди яркого солнечного дня вдруг темнеет, налетает свирепый снежный заряд, яростные порывы ветра могут свалить с ног. В снежной круговерти ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Моя малышка стала колючей и неприветливой, захотела немедленно прекратить наше свидание, заторопилась в общежитие университета, где остановилась их экскурсия. Никакие мои увещевания, что времени у нас еще очень много, на нее не действовали. Недоумевая, я проводил ее в общежитие; вскоре мы расстались.
Перебирая детали нашей встречи, я ломал голову, пытаясь найти причину, которая могла бы вызвать такие резкие изменения в нашей счастливой встрече. Прежде всего, я обвинял себя, искал какой-нибудь своей промашки или неосторожных слов, которые могли так глубоко уязвить мою спутницу. Ничего предосудительного я, как будто не сделал. Запутавшись в бесплодных поисках несчастливых деталей в счастливом потоке, я чертыхнулся, вспомнил свое прежнее «связался черт с младенцем», и постарался обо всем забыть, окунувшись в привычную колею бытия. Надо было уже сочинять отчет о практике, в котором предстояло отразить непростые вопросы.
Причину, прервавшую наше счастливое свидание, я узнал гораздо позже. Между тем, виноват был все же я. Мне не хватило наблюдательности и знания людей, чтобы понять и предотвратить эту смехотворную причину. Самое забавное то, что, не зная этой будущей причины, я уже пытался ее устранить, так сказать, – превентивно. Проходя возле общественного туалета («перестройка» была далеко, и туалеты еще не преобразовали в закусочные), я мимоходом спросил свою милую спутницу: «Не надо?». Малышка окинула меня высокомерным взглядом, как будто я заподозрил ее в нехороших поступках… Ну, что стоило мне быть повнимательнее и понастойчивее? Просто я не мог понять настоящую, ну совсем настоящую, но еще такую юную девочку…
В одной украинской народной песне есть такие слова: «… не бачила миленького чотири годочки…». А когда увидела, то «не посміла сказать «здравствуй», бо мати стояла…». Современные отвязные девицы, которые чуть ли не с детсадика носят с собой презервативы и знают толк в их применении, сочтут такое поведение «зажатостью», «комплексами». И сам не знаю, почему мне, продвинутому и циничному деду, до сих пор милее эти комплексы…
Встретились мы с Эммой только через год, в 1953 году, в Деребчине. Я вернулся из практики в Горьком, где на знаменитом Сормовском заводе мы сваривали корпуса подводных лодок, надеюсь написать еще об этом. К тому времени я уже был опытным сварщиком, и сразу же пошел на завод зарабатывать. Моя смена была с шести утра до 14 часов. Жарища стояла неимоверная, из-под маски горячий пот с шипением охлаждал металл сварного шва. Под своими брезентовыми доспехами я к 14 часам обезвоживался до состояния воблы. По пути домой я смывал с себя грязь и пот в пруду, затем в буфете, который держал Янкель, вливал в обезвоженный организм кружку пива. Дома переодевался и спешил на свидание обратно на завод. Бродили мы вдвоем по вечернему и ночному Деребчину и по парку. Смотреть, кроме луны, было особенно не на что, но нам было хорошо вдвоем. Я разливался соловьем, пересказывая сюжеты фантастики Уэллса, которым тогда был увлечен. Моя спутница внимательно слушала, с округлившимися глазами, положив мою руку себе на поясницу, – конечно, чтобы не замерзла спина. Прощались мы как юные пионеры – за ручку на крыльце у тети Ядзи. Возвращался я домой уже во втором часу ночи. Где-то около четырех наглый будильник поднимал меня для новых трудовых подвигов, и все начиналось сначала.
Через неделю такой жизни в Деребчине наметилось большое культурное событие: спектакль, уже не помню, в чьей постановке. Весь молодежный бомонд с нетерпением ожидал этого события. Я же малодушно уклонился от культурного мероприятия: сидя в зале, я бы немедленно уснул. Эмма немного обиделась, но простила меня.
Тогда же я поближе познакомился с отцом Эммы – Федором Савельевичем, который приехал за ней на грузовике в Деребчин. Федор Савельевич – директор Брацлавского детдома – мощный, энергичный, широко щедрый, симпатичный мужик. Немного выдающийся живот большого любителя пива не портил его, а только придавал некую царственность фигуре и осанке. Славка Яковлев с округлившимися от уважения глазами рассказывал мне о ФС: «Он купил сразу целый ящик пива!!!». В соревнованиях по силе руки (кажется, это называется армрестлинг) ФС шутя всех «пережимал». Во мне он встретил достойного противника, и борьба велась с переменным успехом. Малявка очень «болела» и переживала на наших ристалищах: Кажется, она не знала точно за кого ей следует болеть…
Очередное наше свидание состоялось уже традиционно через год. Встретились мы в 1954 году в Киеве. Я уже кончил институт и готовился отбыть на трудовой пост. Эмма окончила школу с медалью, перед ней были открыты двери любого вуза. Сначала был взят курс на юридический факультет университета, туда были поданы документы и уже «пройдено» собеседование с деканом (проректором?). В вестибюле некий юноша с горящими глазами, уже оканчивающий юрфак университета, пожалел цветущую юность моей спутницы и обратился к ней с пламенной речью:
– Девушка! Зачем вы сюда поступаете? Зачем вам, такой молодой и красивой, гробить свою жизнь, работая с отбросами общества, разными подонками? Это совсем не женская работа! Разве вы не можете стать врачом, педагогом, да кем угодно, только не «разгребателем» этой грязи???
Свои откровения юноша продолжил уже в сквере университета, где нас ожидал Федор Савельевич. Говорил он много, убежденно и со знанием дела. И ФС, и я были с ним вполне согласны. Эмма заколебалась. По-видимому, были и еще какие-то предостережения о вредности профессии юриста, исходящие от авторитетных людей из Брацлава.
Документы из университета были изъяты, Эмма с отцом отправились в сельхозакадемию в Голосеево, чтобы поступить туда на лесной факультет. Я по неотложной необходимости уехал к себе в институт.
Прощались мы уже вечером на Киевском вокзале. Прощание это получилось опять не совсем корректным, что-ли. Мне показалось, что Эмма разговаривает с отцом капризно и грубо. Этот большой человек ее безмерно любил и во всем потакал, только уговаривая, как малого ребенка. Мне, выросшему без отца, это показалось несправедливым, и я на полном серьезе отчитал уже не бывшую малявку, а вполне взрослую девушку. Она – закусила губу. Так мы и расстались, казалось – навсегда. Кажется, и сиреневый туман над тамбуром был в наличии…
Скрытый перелом.
Окончив повествование о «девушках» в 1954 году, требуется вернуться к «самолетам» 1953 года. Я ведь пишу не дневник, а биографию и мне удобно, кроме временнЫх, соблюдать некие тематические связи.
Весной 1953 года умер Сталин. Его смерть потрясла не только СССР, но и многих во всем мире. И теперь не могу равнодушно слушать «Грезы» Шумана: их тогда непрерывно передавали по радио. Многие, в том числе – я, плакали. Вся наша жизнь была связана с его именем. Совсем недавно кончилась Великая Война, с ее неисчислимыми жертвами и страданиями. Как обещал Сталин еще в 1941-м – мы победили. Выступлений Сталина по радио во время войны все ожидали, как голоса божьего: что говорил Сталин в своих коротких ясных речах, – всегда сбывалось. Только-только кончилась война, начала восставать из руин страна, налаживаться жизнь… Об этом времени по-пушкински емко скажет Владимир Высоцкий: «Было время – и цены снижали…». И вот – смерть. «Что же будет с Родиной и с нами?». Многие наши студенты уехали в Москву на похороны. Я не поехал только потому, что в это время болел жестокой ангиной с высокой температурой.
Вскоре всё, на наш малосведущий взгляд, возвращается в привычную колею. Ну, умер один человек, очень великий и суровый, но ведь – один. А мы, марксисты-ленинцы, знаем, что только массы движут историю… Из скупых газетных сообщений, за которыми мы не особенно следим, узнаем, что кого-то освободили, кого-то арестовали, но это там наверху. Идет «перетряхивание» Божественного Олимпа. Чуть позже узнаём, что такие большие люди как Молотов, Ворошилов, Каганович, – замышляли что-то нехорошее против Самой Партии. В СССР появляется человек с самой длинной фамилией – «Ипримкнувшийкнимшепилов». Расстрелян монстр Берия. На Украине арестован министр госбезопасности Мешик. Его родная племянница Нинель Мешик, скромная девчушка из химфака (?), жила в одной комнате с Полей Трахт, и мы хорошо знакомы. Она ходит убитая горем и замкнутая больше обычного. На всякие вопросы отвечает только: «Я ничего не знаю!». Мы тоже ничего не знаем, но с оптимизмом невежества считаем, что все будет хорошо...
После 19 съезда КПСС в 1952 году и последующего Пленума ЦК КПСС нам, непосвященным, были непонятны произошедшие изменения в высших органах нашей «руководящей и направляющей». Казалось: какая разница – Политбюро или Президиум ЦК? Сталин попросил отставку с поста Секретаря ЦК, оставаясь Главой государства в качестве Председателя Совета Министров СССР. Ничего ведь не менялось: Сталин был и оставался главой государства. Но высшие партийные бонзы все поняли, их обуял смертельный страх: Сталин «отставлял» партию не только от себя, но и от непосредственного командования жизнью страны. Весь многочисленный партийный аппарат, особенно разросшийся после войны, командовавший всем и ни за что не отвечавший, – оставался не у дел, отрывался от сладкой кормушки. Партии верили потому, что там был Сталин. Если по-настоящему выполнить старый лозунг «Вся власть Советам», то обнажается никчемность и паразитизм КПСС (конечно, я имею в виду только бюрократический аппарат «профессионалов» КПСС, а не рядовых трудящихся – коммунистов, которые беззаветно трудились у станков, на полях и полигонах).
Если бы Сталин осуществил задуманное, развитие СССР пошло бы по другому пути. Чтобы все оставалось по-прежнему, Сталин должен был умереть. И он умер. Как его умертвила партийная верхушка – имеются многочисленные исследования. Тогда «Партия» победила, законсервировав ситуацию в стране еще на десятилетия. Тем оглушительней стал взрыв СССР в конце 20 века...
Сейчас, только сейчас, – спустя полвека после тех событий, обнаруживаются скрытые факты, и начинаешь понимать их огромное влияние на судьбу страны. Именно тогда были посеяны семена сокрушительного распада Великой Державы. А ведь вся моя активная жизнь была посвящена укреплению этой Державы… Медленно вращаются колеса Истории, и быстро проходит человеческая жизнь…
Сормовские страдания.
Все это будет потом. Сейчас, весной 1953 года мы сдаем весеннюю сессию и готовимся отбыть на практику. Возникает вопрос экипировки. Студенческая мода тех времен была далека от изысков «от кутюрье». Ограниченная выбором материалов, она творила удивительные чудеса при скудных возможностях. Я уже писал о преобразовании скаток солдатских шинелей в шикарное полувоенное «пальто-шинель». В таком «прикиде» я щеголял десятый класс и первые два курса института, пока не перешел на длиннополые «настоящие» пальто из крашеного шинельного сукна. Мягкие пальто из ратина и аналогичных материалов имели заоблачные цены и были недоступны. Другое великое изобретение, заменявшее фрак, смокинг, пиджак, спортивную куртку и рубашку, – «бобочка». Это великое изобретение можно определить как шитая спортивная куртка. Обычно верхняя часть шилась из материала другого цвета, внутренние карманы были на молниях или пуговицах, рукава и пояс застегивались на пуговицах. Бобочку можно было надеть просто на майку, а можно – на рубашку с галстуком, слегка раскрыв молнию на груди. Имя изобретателя мне неизвестно; шил, совершенствовал, украшал и носил бобочки – весь народ. Мы, конечно, сами не шили. На киевской толкучке за весьма умеренную цену можно было купить бобочку любого размера, из любого материала, на любой вкус, – повседневную, выходную, парадную и универсальную, женскую и мужскую.
Неприкрытой народным интеллектом оставалась нижняя часть туловища: здесь нерушимую оборону держало изделие «мужские брюки», сложные в конструкции и эксплуатации. Невыносимый недостаток брюк, в частности, – потребность в глажке, т. е., – в утюгах, столах, тряпочках, электроэнергии и, главное – времени. Народная смекалка и мода в ответ родили еще одну новинку: шаровары. Пошитые из плотной ткани «чертова кожа» шаровары выполняли все функции брюк, но были лишены их недостатков. Новинка была настолько свежей, что даже киевская толкучка ее еще не освоила. Для летней практики мы посчитали сей предмет совершенно необходимым, и решили заказать его в ателье самостоятельно. Приобрели ткани: черную «чертову кожу» и тонкий и прочный сатин для карманов. Резинки тоже были двух сортов: широкая для пояса, и узкая – для штанин. Со всем прикладом на четырех человек (Коля, Серега, я и Славка Щербаченко) отправились в ближайшее ателье. «Мы это не шьем», – разъяснили нам в ателье. Мы свернули разложенные было материалы, и отправились в другое ателье. Там мы получили такой же отлуп. Двигаясь по разным ателье «индпошива» мы уже добрались до элитных ателье на Крещатике, но и там получали от ворот поворот.
– Ну почему не шьете? – теряли мы лицо. – Трусы вы можете пошить?
– Трусы – пожалуйста!
– Так это – те же трусы, только штанины длиннее! – жертвовали мы карманами.
– Нет, не можем, у нас на такое изделие и прейскурантов нет.
Измученные, потерявшие веру в человеческие возможности, мы забрели в маленькое ателье по ремонту одежды в узком переулке возле бывшего Евбаза (Еврейского базара), теперь – площади Победы. На наш унылый зов появился «товарищ» с портновским метром на плече. В ответ на вопрос, заданный уже без всякой надежды, он опустил очки, внимательно оглядел нас, затем окна на уровне тротуара и произнес:
– Это будет стоить каждому…, – он назвал сумму стоимости пошива двух брюк из шерстяной ткани.
– Ну почему …, – начал было торговлю Серега Бережницкий, уязвленный расценкой до глубины души.
– А когда вы можете сделать? – перебил его Коля, памятуя о скором отъезде.
– В пятницу вечером все будет готово, – после некоторых расчетов с шевелением губами и закатыванием глаз сообщил нам портной. – Задаток, половина денег – сейчас.
До пятницы оставалось три дня. Я оглядел унылый строй заказчиков. Положение было безвыходным. За мечту надо было платить дороже, чем мы рассчитывали.
– Хорошо, мы согласны, – взял на себя руль я.
Появился помощник. Нас быстренько обмерили, забрали материалы и деньги. Квитанции никакой не было: так сказать «бизнес на доверии». Мы смирились с потерями и уходили облегченно: все-таки проблему шаровар мы решили, хотя и дороговато. В пятницу мы подошли в ателье в прежнем составе, представляя себе фурор в общежитии, когда мы все появимся в черной чертовой коже. Нас ожидало глубокое разочарование: заказ не был готов, портной обещал его выполнить теперь только во вторник. Хотелось «рвать и метать», но, чтобы не нервировать нашего «благодетеля», мы молча удалились, только на улице начав прения о «бизнесе на доверии» и подпольных миллионерах.
Ко вторнику у меня созрел план, о котором я ничего не сказал ребятам, но собрал со всех деньги для расчета. Перед входом в ателье я провел короткий инструктаж.
– Никто из вас не должен произносить ни единого слова, разговаривать буду только я. Ваше дело – следовать в кильватерном строю, строго молчаливо. За мной идет Коля, замыкает строй – Славка.
Ребята удивленно посмотрели на меня, но молча повиновались. Дальше события разворачивались так. Вошли. Я, не здороваясь:
– Готово?
Он, оглядевшись, кивает утвердительно головой.
– Давайте!
Он, опять тревожно оглядываясь, откуда-то из под стола добывает сверток, разворачивает. На каждых шароварах приколота бумажка с именем заказчика и размерами, поэтому мы без труда находим свои, для гарантии прикладывая сбоку, проверяя размеры. Все совпадает, карманы вшиты, резинки вставлены. Только переглядываемся, никто не произносит ни слова. Обращаюсь к «благодетелю»:
– Остатки есть?
Он согласно кивает головой.
– Давайте.
Он приносит лоскуты, довольно крупные, и куски резинок. Все забираем. Я вежливо говорю: «Спасибо», поворачиваюсь и иду к выходу. Молчаливая команда строго в кильватерном строю следует за мной. Краем глаза вижу как портной снял и опять надел очки, почесал живот… Отойдя, по инерции – строем, метров 30, моя команда рассыпается и начинает ржать: ну, надули фраера. Я тоже веселюсь, но говорю ребятам:
– Мы его не надули. Мы заплатили за удлиненные трусы как за брюки? Заплатили! Квитанцию он дал? Не дал! Обещанный срок выдержал? Не выдержал! Так что эти деньги мы и не должны ему платить!
Доводы неопровержимые, наша совесть чиста, мы продолжаем веселиться. Я благодарю коллектив за твердое молчание, что решило успех операции. Коля Леин спрашивает меня:
– Ну, а если бы он сказал: «Деньги давайте»?
– У меня был заготовлен ответ: «Какие деньги? По нашей квитанции мы все уплатили»!
У нас появилась приличная сумма свободных денег. Закупаем яства, немного вина и славно обмываем обновку и прошедший недавно праздник из праздников – День Победы…
Воспоминания из будущего. Испытанный в Киеве психологический трюк «молчаливой угрозы», мне пришлось применить в Ленинграде спустя лет 10, чтобы отнять у жулика свои кровные. Мы с женой никак не могли обменять свои две комнаты на отдельную квартиру. Помочь взялся «черный маклер» Лев Борисович. Он в качестве аванса получил от нас 400 рублей, месяца два водил нас за нос, затем перестал отвечать на звонки и приходить на встречи. Случайно мы узнали, что он очень скоро собирается эмигрировать в Израиль, и что таких дурачков как мы у него уйма. Свои деньги, пока не поздно, надо было отнимать, если не силой, то – хитростью. Задуманная операция была почти копией киевской, с учетом местных условий.
Эмма жалобно, взволнованно и убедительно пропищала у дверей его квартиры на улице Жуковского:
– Лев Борисович, мне срочно надо Вам сообщить очень важные сведения!
Лев Борисович, после некоторого раздумья, застучал запорами и приоткрыл дверь. В щелку был немедленно вставлен ботинок 43 размера, и в квартиру строго молча вступили три мужика: Боря Мокров, Лева Мещеряков и я, – все в морской форме и при эполетах. Не спрашивая разрешения, молча уселись в гостиной. Я безразлично произнес только одно слово: «Деньги». Лев Борисович завертелся ужом. Он начал говорить, что уже близок к цели и вот-вот выдаст нам квартиру. Общество молча сидело, скучающе разглядывая обои. Я опять произнес: «Деньги». Лев Борисович начал клясться, что у него сейчас нет наличных: все в деле, что максимум, который он может наскрести сейчас – двести рублей. Я опять произнес: «Деньги. Все». Лев Борисович воздел руки к небу. Все молчали. Лев Борисович удалился в соседнюю комнату и вскоре передал мне деньги. Я тщательно пересчитал их: было ровно 400 рублей. Я молча поднялся, за мной остальные. Все двинулись к выходу. Лев Борисович дрожащими руками начал нам отодвигать запоры. Он бы на всю жизнь запомнил наш визит, если бы всю обедню не испортил очень вежливый Боря Мокров. Он всего лишь спросил:
– Лев Борисович,это у вас там телевизор импортный или самодельный?
Лев Борисович стряхнул с себя наваждение и начал подробно рассказывать Боре очень нужные сведения из жизни цветных телевизоров. Остальные, как дураки, молча ждали на лестничной площадке конца их беседы…
Сдав сессию за четвертый курс, мы едем на практику в город Горький на знаменитый Сормовский завод. Завод может изготовлять все на свете: суда, паровозы, танки и еще тысячу вещей. Сейчас, кроме прочего, он изготовляет подводные лодки, сваркой корпусов которых мы и должны заниматься.
Мы – это Юра Попов, Сева Троицкий, Юра Вахнин и я. Кроме командировок нам выдают непонятные бумажки. Это – допуск, едем на оборонное предприятие.
На заводе в Сормове нас «оформляют», выдают пропуска, кровати, матрацы, подушки, постельное белье. Загружаем добро в тележку и тащим его до указанного частного адреса. Наш хозяин – старый кадровый рабочий. В двухэтажном бревенчатом доме он проживает с многочисленным семейством и родней. Встречают нас радушно. В качестве жилья нам определяются большие сени (сейчас бы их назвали «холл») на втором этаже. Стены нашего «холла» – грубо отесанные бревна со слоями пакли в углублениях. Тем не менее – достаточно просторно и чисто. Мы монтируем свои кровати, на них с армейским шиком (спасибо старшинской науке в наших военных лагерях) укладываем матрацы и белоснежные простыни.
Хозяйские дочки-внучки и их подружки пялят глаза на молодых симпатичных «почти инженеров», которые приехали прямо из Киева. Мы исподтишка оглядываем их. В наших взглядах, кроме простого любопытства, – исследовательский интерес. В тот период вся страна распевала «Сормовскую лирическую», в которой «под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет». «В рубашке нарядной к своей ненаглядной пришел на свиданье хороший дружок», но подруга сурова и непреклонна: «и скажет: немало я книг прочитала, но нет еще книжки про нашу любовь!». После такого литературного «отлупа», конечно, «волнуется парень и хочет уйти, но девушек краше, чем в Сормове нашем, ему никогда и нигде не найти!» Очень нам хотелось изучить этот вопрос: насколько права песня в части красоты сормовских девушек.
Устроив жилье, мы пошли на разведку в город, собственно – пригородный район Горького. Нам он весьма понравился: зеленый городок, широкие тротуары, на которых росли деревья. Много разных магазинов. И по широким тротуарам двигались стайки девушек, одна другой краше! Завидев нашу шеренгу, они опускали глаза, и только вблизи поднимали их, мгновенно и любопытно осматривая только кого-нибудь одного, заранее примеченного. Уяснив их тактику, мы стали вести индивидуальные личные счета таких взглядов, назвав их «птичками». По количеству этих «птичек» вне конкуренции был Юрка Попов.
Поужинав за очень небольшие деньги в весьма приличной столовой, в отличном расположении духа, мы отправились на «лежбище». Провели еще беседу с радушными хозяевами, которые предложили чайку с домашними вареньями-печеньями, и, наконец, блаженно растянулись на своих чистеньких лежбищах, почти сразу погрузившись в крепкий сон.
Проснулся я через час от невыносимого жжения по всему телу. Непроизвольно почесавшись, я почувствовал на пальцах что-то липкое. Я сел на кровати, ничего не понимая. При тусклом свете уличного освещения, проходившего сквозь небольшое окно, я узрел, что вся наша команда сидит на своих кроватях. Зажгли свет. Явившаяся нам картина была впечатляющей: на наших белых простынях проворно сновали десятки, нет – сотни разнокалиберных тощих клопов. Некоторые уже лоснились от выпитой нашей крови и передвигались медленнее, часть из них, судя по кровавым следам, уже окончила жизнь под пальцами своих кормильцев. Такого количества голодных аборигенов я не видел ни до, ни после. Неизвестно было, как с ними бороться. После физического уничтожения самых больших и «нажравшихся», на белье оставались кровавые пятна; с отловленными без немедленной казни – неизвестно было, что делать. Сева Троицкий попробовал было обработать насекомых одеколоном, но, надушенные, они бегали еще быстрее. Давить пальцами было противно: мы еще не знали, что это, якобы, запах коньяка. В конце концов, стали применять малоэффективный способ: клопа кое-как сталкивали на пол и давили босой пяткой, если он проворно не успевал спрятаться в щель между досками пола.
Остаток ночи мы провели в неустанной борьбе. Утром хозяева слегка посмеялись над нашими заботами: то ли их свои насекомые не кусали, то ли они уже привыкли.
В свой первый рабочий день на заводе мы не столько внимали инструктажам по технике безопасности, сколько размышляли о грядущей ночи. Решили бороться с наглецами своим самым сильным оружием – интеллектом. На свалках были подобраны жестянки от использованных консервов, куда была залита вода. Каждую ножку каждой кровати мы поместили в жестянки с водой, тщательно подобрали простыни и одеяла, дабы устранить мосты «пол – кровать». Довольные своими умственными способностями, мы блаженно растянулись на кроватях, благодаря Всевышнего, что он не научил клопов плавать: водяной ров вокруг ножек кровати служил для них непреодолимой преградой.
Проснулись мы чуть позже, чем в первую ночь, но, увы, – опять от укусов насекомых. С недоумением просмотрели все ножки кроватей в банках, непреодолимые водные преграды были исправными. Мысль о сооружении клопами плавсредств для переправы через широкие рвы с водой – показалась фантастической. Сидеть в засаде они тоже не могли: железо наших кроватей совсем не напоминало уютного чрева троянского коня. Общество тяжко задумалось: как им удалось нас перехитрить?
– Они что, з-заразы, – летать умеют? – ударился в фантастику Юра Вахнин. Внезапно «заразы» необдуманно подкрепили эту фантастическую версию: на простыне возник из ничего плоский клоп и начал проворно улепетывать, почувствовав наши напряженные взгляды. Мы обратили очи вверх, и увидели на потолке еще нескольких зверей, изготовившихся к пикированию на наши лежбища. Нас атаковали с воздуха!!!
Напряженно запульсировала коллективная мысль «почти инженеров». Теперь для борьбы с коварными аборигенами решено было использовать большевистскую – другой не было, – прессу. Над кроватями из газет были сооружены двускатные крыши. Жаждущие нашей крови «парашютисты» попадали на крутой газетный склон и скатывались на пол вне желанной столовой: пламенное большевистское слово нас надежно защищало. На другой, нижней дороге, «пехотинцев» ожидали непреодолимые рвы с водой. Впервые ночь мы отдыхали, не будучи лакомым блюдом для ненасытных туземцев...
Огромный Сормовский завод нас поразил. В нашем основном цеху, изготовляющем прочные корпуса подводных лодок, работают циклопических размеров гильотины, вальцы, карусельные и другие станки. Гигантские обечайки свариваются встык на вращающихся стендах. Два-три кольца корпуса лодки медленно вращает стенд. Внизу сварочный трактор сваривает под флюсом внутренний шов стыка, сверху – наружный. На настоящем производстве работают только патоновские автоматы – трактора, – компактные, простые и надежные. Соблазнивший меня при поступлении в институт «электриковский» АДС-1000 красуется только в сварочной лаборатории: он тяжелый, громоздкий, ненадежный, с чрезвычайно сложной электрической схемой. Правда, его многочисленные приборы и регулировки хороши при исследовательских и наладочных работах по режимам сварки, но только в условиях лаборатории.
Могучие мостовые краны поднимают фрагменты корпуса, соединенные блестящими сварными швами и подают их на стапель, где производится сборка и насыщение лодки механизмами, трубопроводами, кабелями. Туда нам вход заказан: надо иметь специальные допуски. Мы задаемся вопросом: как вывезти такие махины из сухопутного города Горького? По кусочкам собираем ответ, памятуя, что излишнее любопытство в таких вопросах наказуемо. Лодки грузят на специальные плоскодонные баржи – доки, по Волге такие баржи доходят до Каспийского моря, а по системе Беломорканала – на Балтику и Севера.
Взгляд из будущего. По современным меркам там изготовлялись относительно небольшие дизельные лодки времен Второй Мировой, что и позволяло перевозить их таким путем. Теперь лодки побольше, и строятся поближе к глубокой воде…
Вникаем в тонкости сварочного производства, добываем материалы для отчета о практике. Начинаем понимать, какая огромная подготовка требуется, прежде чем соединить детали сварным швом. В общем, – работаем.
Погода стоит жаркая, и мы все больше внимания уделяем Волге. У Сормова она хороша: не каждый решится переплыть. С финансами у нас туговато. Всерьез дебатируется вопрос: не пойти ли нам «попахать» на частных огородах за Волгой. Для начала безвозмездно обрабатываем картошку нашего хозяина: нас они принимают и подкармливают слегка, как родных. Однако приходит стипендия из института и острота вопроса снимается. Бродим по старинной основной части Горького – Кунавино (или Канавино?). Любуемся мостами, Кремлем. В своем жилище, на заводе и на волжских плесах – везде мы уже свои люди, нам здесь нравится, у нас полно друзей и знакомых. По кому-то из нас сохнет очень рослое и очень молодое соседское дитя Венера Молочкова. Вечером она появляется у наших хозяев и молча и восторженно внимает нашим шуточкам, и даже техническим разговорам. Она краснеет, но страшно довольна, когда ее в шутку кто-нибудь потискает и поцелует. Очень переживает, когда мы прогоняем ее домой, но исправно является на следующий вечер.
Все кончается, даже удачная практика. Прощаемся, уезжаем. У Попова в Москве высокопоставленный дядя, планируем задержаться на несколько дней в столице нашей Родины.
В Москве договариваемся о встрече через день у Киевского вокзала и расходимся по родственникам и знакомым. Я – с Юркой Поповым. Дядя нас принимает, наскоро объясняет, где что, и убегает. Из обрывков фраз и ранее увиденных афиш узнаем, что в Большом театре сегодня должна состояться премьера оперы Шапорина «Декабристы», на которой будет все правительство и ЦК, в том числе и Юркин высокопоставленный дядя.
Выходим в город, катаемся на метро, осматривая роскошные подземные станции, бродим пешком по центру, по Красной площади. На мавзолее надписи «ЛЕНИН – СТАЛИН». В мавзолее мы не были, кажется, он был закрыт. Собственно, я впервые рассматриваю Москву вблизи. Поражают громады высотных зданий. Среди людской толчеи чем-то неуловимым выделяются «ворошиловские демобилизованные»: из лагерей и тюрем выпущено огромное количество народа. Особенно много их возле железнодорожных вокзалов. Стоит показать свою «нездешность», засмотревшись на что-нибудь, как немедленно чувствуешь на себе оценивающий хищный взгляд нескольких праздных мужиков, стоящих вблизи. На тебя надвигается верзила в видавшей виды одежде и угрожающим тоном произносит короткую просьбу: «Дай рупь!!!». Если другой проситель заходит сзади, – молча отдаешь рубль, совсем не лишний. Несколько рублей затрачиваем на просмотр чуда техники – стереокино. На входе посетителям выдавались поляризованные очки, сидеть надо строго по оси стула, но впечатление от объемности картинки сильные.
Пересаживаемся с одного вида транспорта на другой, ходим, глазеем. Изредка перехватываем по пирожку, запивая газировкой. Москва просто мгновенно высасывает наши скромные сбережения.
К вечеру мы так устали, что еле добрались к роскошной, по нашим понятиям, дядиной квартире. С премьерой что-то не заладилось, дядя был чем-то встревожен. Во всем воздухе разлита некая тревога и напряженность, которой мы тогда по глупости и по крайней усталости не придали значения. Только теперь из разных источников узнаешь подробно, какие важные для судеб Родины события происходили тогда в Москве…
Утром собираемся возле Киевского вокзала. Встретили еще одного нашего из мехфака. Недалеко от вокзала усаживаемся на высокую асфальтовую завалинку: до посадки на поезд еще несколько часов. Вскоре напротив нас усаживается пять «демобилизованных» в возрасте от двадцати до сорока лет. Сначала сверлят нас глазами, затем начинают разговор «за жизнь». Первый разговор ведется с Поповым. На его ногах шикарные туфли.
– Слышь, пацан, ты какой размер носишь? – хищно поглядывая на туфли, произносит самый наглый. На его ногах подобие кожаных галош, подвязанных шпагатом. – Тебя мозоли не мучают случаем? Давай махнемся: мои во какие просторные! – крутит он ногой. Его компания скалится гнилозубыми улыбочками и пододвигается к Попову.
– Не хочу я с вами связываться, – произносит Юра, поднимается и быстро уходит. Бегство Попова для компании было неожиданным, они с некоторым опозданием переключаются на остальных: одному нравится шерстяной свитер Вахнина, другому – мои многострадальные наручные часы. Компания окружает нас поплотнее, один заходит с тыла. Теперь нас четверо против пяти. В руках у нас ничего, кроме кулаков нет, у них, скорее всего, – есть ножи. Я разворачиваюсь так, чтобы не стоять спиной к зашедшему в тыл, напряженно соображая, кто нападет на нас первым. Силу своего удара я знаю, и должен им сразу «выключить» этого первого. С завалинки мы поднялись и стоим спиной друг к другу, заняв круговую оборону. Улыбочки у шпаны исчезли, теперь они ощупывают наш строй колючими глазами.
– Атас!!! Он ведет легавых! – вдруг завопил любитель шикарной обуви. Вся компания мгновенно сникла, быстро отступила и рассосалась в людской толчее привокзальной площади.
Мы перевели дух и начали глазами искать Попова и милиционеров (тогда они еще были не «ментами» а «легавыми»), которых он вел. Никого не было. Грабителей подвела их воровская мораль: они и представить себе не могли, что можно оставить товарищей просто так, спасая только одного себя…
Попов нас встретил уже возле вагона, с аппетитом потребляя мороженое.
– Я не хотел с ними связываться, – начал он оправдываться, глядя на нас невинными глазами, хотя ему никто ничего не говорил.
– М-мы это п-поняли, – пряча почему-то свои глаза, ответил ему вежливый Юра Вахнин…
Возвращаемся в Киев, сдаем отчеты по практике, решаем всякие дела по институту и общежитию. Тамила после своей практики уже дома, вместе с мамой ждут меня. Убываю в Деребчин, где родной завод тоже ждет – не дождется своего «летнего» сварщика. «Сварной» возвращается с радостью: «в дорогах, знаете ли, – поиздержался».
Деребчинские встречи конца лета 1953 года я уже успел описать в предыдущей главе: конечно, чтобы запутать противника.
Мото, фото и радио – трудящимся.
Ты слышишь – радио поет,
большие рупора…
(довоенное стихотворение)
Ностальгические охи, с головой, повернутой на 180 градусов. Лег – встал, лег – встал, – с Новым годом! Короток день у стариков. Ничего путного не успеваешь сделать: не хватает времени… С удивлением оглядываешься назад: какие длинные были дни раньше, как много в них помещалось!
Фотографию я начал осваивать еще в школе, когда Славка Яковлев добыл где-то ободранный старинный «Фотокор». Негативы на стеклянных пластинках сначала получались просто размазанными. Потом стало понятно, что надо пластину ставить эмульсией вперед, и наши картинки улучшились. Увеличителей и электричества не было. Мы приладились печатать фото тем же «Фотокором», который вставлялся в плотную штору окна. Рассеянный свет белого дня работал не хуже лампочки в увеличителе.
К началу института я уже кое-что понимал в диафрагмах, выдержках и номерах фотобумаги. Фотоаппараты ФЭД, Рефлекта и увеличители были чужими, все остальное – мое. Фото тех времен много, увы – не самого лучшего качества: не было ни условий, ни нормальных фотоматериалов, ни особого опыта. Обычно, из-за отсутствия фотокомнаты, работать приходилось ночью, когда все спали, и было темно. Вместо глянцевателя многочисленные отпечатки (для всех друзей!) наклеивались на стекла окон, где сохли полдня; затем – отваливались, уже с глянцем… После жестокого краха парашютных съемок, я почти забросил фотографию, но и раньше сделанные неумелые дилетантские фото напоминают о многом…
А еще были велосипед и мотоцикл, конечно, – не мои собственные. На велосипед я впервые сел в 14 лет. К маме на уроки математики приезжал наш деребчинский хулиган Женя Андропченко. В состав платы за учебу мама, по моему настоянию, включила прокат велосипеда в течение двух часов учения великовозрастного болвана. Езде на велосипеде учился я самостоятельно, падал – тоже. Сбоку от учебной дороги находился глубокий ров, заросший крапивой. Меня туда просто затягивало, причем, – независимо от направления движения. Садиться на велосипед я почему-то научился справа, хотя все садятся слева, где нет цепи…
Однажды я получил велосипед на целых два дня: владелец куда-то отбыл и милостиво разрешил мне аренду. В школе, где я гордо колесил, велосипед у меня выпросила на минутку Лида Клочко, дочка директора сахзавода. Кататься она, несомненно, умела, но умудрилась столкнуться с другой дурой на другом велосипеде. Переднее колесо моего велосипеда изогнулось в замысловатую фигуру. Это был полный крах, я был в отчаянии: в то время велосипед был большей ценностью, чем сейчас шестисотый Мерседес: их было несколько на все село, а купить было невозможно, даже если бы были деньги. Утешать меня стал Витя Вусинский: он где-то слышал, что восьмерки на велосипедных колесах можно исправить подтяжкой спиц. Колесо мы разобрали. Целый день непрерывных опытов и неудач медленно привел нас к мастерству: колесо стало как новое! А мы с Витей стали Главными по велосипедным восьмеркам! Спасибо тебе, дорогой друг! Пусть мое благодарное торсионное поле коснется тебя в другом мире (Витю скосил в расцвете лет туберкулез).
В институте я с завистью смотрел на мотоциклистов: они могли свободно перемещаться в пространстве. Мотоциклы были «каки» – К-125, «ижаки» – ИЖ-49 и тяжелые, с коляской – М-72. Особая роскошь – трофейные Цундапы, Харлеи и БМВ, недосягаемые для простых смертных.
Владька Крыськов – человек общительный и разговорчивый чрезвычайно. Он проживает на частной квартире, но ему никак не обойтись без общежития. Он днюет и ночует у нас. Владька – счастливый обладатель мотоцикла ИЖ-49, и может о нем и о поездках говорить бесконечно. Предмет наших подначек и шуток: от изнурительных «моторазговоров» в новогоднюю ночь от Владьки сбежала девушка, – весьма «фактурная» дочка директорши студенческой столовой.
После практики мы выделяем неделю на путешествие на его мотоцикле. Родители Владьки где-то за границей, и деваться в это время ему просто некуда. В мотоцикле, предмете вечных забот и усилий, очень растянулась цепь. Новой цепи нет: их выпущено ровно столько, сколько и мотоциклов. На толкучке находим только кусок цепи от иноземного Харлея. Цепь несколько шире, но шаг – одинаковый, и мы вставляем новый кусок на место самых изношенных звеньев старой цепи. Трогаемся в путь рано утром. Из наших карманов торчат бутылки с маслом – автолом. Бензином можно разжиться везде: на редких бензоколонках и у грузовиков, а вот маслом – почти нигде. Мотор наш двухтактный, и масло надо сразу добавлять в бензин.
К обеду добираемся до Радомышля Житомирской области. Здесь живет Серега Бережницкий. Находим его бунгало, он несказанно рад. Причащаемся, чем бог послал Сереге, запиваем не квасом: туземцы тоже понимают толк в самогоне. Ночуем. Утром, пока прощались – незаметно дотянули до обеда с «приемом на грудь». Выходим уже «по синусоиде», но мотоцикл бежит еще прямо. Блуждаем по Житомиру, по Бердичеву, в Винницу приезжаем затемно. Решаю ехать до Немирова, там есть поворот на Деребчин. В темноте проскакиваем поворот, и теряем ориентацию. Села погружены в темноту: электричество – роскошь. Пытаемся поймать туземцев, чтобы выведать, где мы находимся. Однако, аборигены, попав в свет фары, быстро улепетывают. Доезжаем до указателя. Написано: «Брацлав». Здесь живет Эмма, но нас никто не ждет в темной ночи. Зато теперь мы знаем, где находимся. Гоним около 10 км назад, находим «поворотку», глубокой ночью прибываем в Деребчин. Мама и Тамила уже спали, однако нас встречают радостно, собирают на стол… Ложимся только под утро. Пару дней катаемся по Деребчину и окрестностям, встречаемся, в том числе, с Васей Стопой. У него уже масса вопросов к ученым сварщикам…
На обратной дороге в Киев нас ожидает неожиданность: на подъеме наш мотоцикл останавливается, хотя мотор ревет. Непонятно. Начинаем осмотр. Вместо задней ведомой звездочки у нас образовался шкив со слегка волнистой поверхностью. Это работа харлеевской вставки: у нее и растянутой старой цепи получился немного разный шаг, что и съело зубья звездочки. До Киева еще километров 50. Вести машину в руках – два дня пути. Тем более – вечереет, впереди ночь. Чешем репы. Пробуем натянуть цепь так, чтобы она работала как ремень. Немного тянет. Выкатываем мотоцикл на горку, заводим, очень медленно трогаемся. Машина разгоняется, и мы взлетаем на половину очередного подъема, прежде чем цепь начинает буксовать. Выталкиваем мотоцикл вручную на следующую горку, и все начинаем сначала. В таких заботах проходит часа два. До Киева остается километров 10, но у нас новая неприятность: полностью сел аккумулятор и мы можем завести мотор только на приличной скорости. Отрабатываем новую тактику. Теперь на вершине горки мы бежим рядом с мотоциклом, когда он заводится – вскакиваем на него. Несколько таких циклов, и мы въезжаем в Святошино – это уже почти Киев. Подъемов и спусков на шоссе почти нет, и нам, обессиленным, все труднее разгонять мотоцикл до «заводной» скорости. За километр от общежития кончается бензин. Мы тащим машину «за рога» с двух сторон, поднимаясь на горку. Последние 300 метров до общежития – спуск. Мы садимся на мотоцикл и в полной тишине подъезжаем к дому. Удивлению вахтера нет предела: он никогда не видел мотоциклов с такой тихой работой мотора…
Оглушенный сверхнагрузкой первых курсов, я было совсем забросил свое радиолюбительство, если не считать ущербного «радиОлыка», которым меня терзали азиатские товарищи. На четвертом курсе мы возвратились в свое родное подросшее и обновленное общежитие, которое стало теперь пятиэтажным. На каждом этаже появились большие открытые лоджии – веранды, на которых вечерами устраивались даже танцы. Теперь мы вшестером живем в комнате 101 на третьем этаже. Наши окна соседствуют с верандой, которая заказывает музыку непосредственно в наше окно. Кроме четверки сварщиков – Коли Леина, Сереги Бережницкого, Славы Щербаченко и меня – еще двое сосунков из механического факультета, которых мы опекаем и учим уму-разуму.
Слава Щербаченко, рослый добродушный парень, курсом моложе, но годами и опытом старше нас. Он из города Орджоникидзе, который раньше, кажется, был Владикавказом, позже стал Дзау-Джикау, а сейчас носит название еще другое (нет под рукой Энциклопедии). Слава подростком был угнан в Германию, работал на немецком заводе, пережил ужас ковровых бомбардировок союзнической авиацией Дрездена, когда людей погибло больше, чем позже в атомном пламени Хиросимы.
Весной в общежитии открываются окна, и весь дом наполняется невообразимой какофонией: почти в каждом окне выставлен свой маленький «радиолык», излучающий в пространство мелодии, любезные хозяевам и имеющиеся в наличии. Радиолык 101-й хрипел на всю мощь, но еле перекрикивал музыкальный хаос хотя бы для танцев на веранде нашего третьего этажа. Кроме того, появился еще один раздражающий фактор: нас стали давить поодиночке и всех вместе чуждые силы. Метров 50 дальше, на другой стороне нашей Полевой улицы, было общежитие инженеров ГВФ. За эмблему пропеллера на погонах мы называли их в быту «вентиляторами». Так эти «вентиляторы» на одном из своих балконов установили динамик от кинопередвижки, и сразу своими звуками перекрыли все наши хилые радиолыки, навязывая всему общежитию политехнического свою музыку, кстати, – очень непритязательную попсу, как назвали бы ее теперь. Этого мы вытерпеть не могли и приняли контрмеры.
К тому времени я уже давно болел «радиозудом». Вместо несчастного радиолыка, я построил мощный высококачественный усилитель низкой частоты, соединив несколько схем из журнала «Радио» и книги «Усилители низкой частоты». Основные детали для него приобретались на киевской городской толкучке, где можно было добыть всё. Основа усилителя – трансформатор – у меня был огромный. Дело в том, что тогда магниты на мощных динамиках были электрическими, и я специально зарезервировал для этого большую мощность. Полупроводников еще не было, поэтому два выпрямителя (для усилителя и динамика) были на больших лампах – кенотронах, а выход усилителя – «пушпул» на двух мощных тетродах 6П3С. Мелкие детали – резисторы, конденсаторы и другие можно было купить в магазине, обменять или просто разжиться у других радиолюбителей общежития. Металлург Юра Могирев соорудил магнитофон: в то время их для народа не выпускали. Миша Буденный из радиофака был «профессором» по приемникам: его коротковолновый монстр прослушивал весь мир. С этими ребятами можно было поговорить на «птичьем языке» и получить любую поддержку. Моя ниша – усилители низкой частоты, – оказалась теперь очень востребованной. Усилитель получился довольно громоздким – занимал целую полку этажерки, которую предоставили мне ребята. Я поставил ее вверх ногами на спинку кровати; нижний этаж целиком занимал усилитель, так что над подушкой у меня светился десяток радиоламп и слегка гудел трансформатор. Трофейный динамик «Телефункен» был весьма мощный, но без соответствующей системы не отдавал низких частот и полной мощности, оглушая только нашу комнату. Когда нас достали «вентиляторы», ребята выделили для нужд контрмероприятия две большие настоящие чертежные доски. Настоящие – это не из какой-нибудь презренной фанеры, а склеенные из тонких липовых дощечек. В одной доске в центре было вырезано отверстие для динамика, из второй сделали обрамление, чтобы низкочастотные звуки с фронта и тыла динамика не могли взаимно ослабляться – шунтироваться. Акустическая система, построенная на костях учебного процесса, взревела с невиданной мощью и красотой. Выставленная в окно, она не только подавляла диверсантов-вентиляторов, и обеспечивала бесплатными танцевальными мелодиями все веранды общежития, но и «покрывала» значительную часть столицы Советской Украины: напротив общежития был почти патриархальный сельский район с частными домиками.
Репертуар нашего «вещания» был весьма разнообразным. Все общежитие оценило пользу централизованного «звукоснабжения» и по выходным вечерам заявки на танцы нам подавали вместе с пластинками. Самые популярные вальсы: «На сопках Маньчжурии», «Березка», «Амурские волны» и много других, которых уже и не упомню, – вплоть до «Танца маленьких лебедей», который изображали несколько верзил, вроде Вовочки Нестеришина. Очень популярно было танго, и мы крутили «Брызги шампанского», «Веселый май» и много других, в том числе – «трофейных-заграничных». Знойное иностранное танго с неведомыми словами на неведомом языке запросто «переводилось» по звукам:
Надо учесть, что тогда эти танцы в «русле борьбы с низкопоклонством перед Западом» были вне закона. В многочисленных кружках и школах народ заставляли изучать всевозможные мазурки, па-де-катры, па-де-грассы, которые, на мой взгляд, еще более «западные». (Посещал и я такие кружки, но сложные телодвижения и па этих танцев забывались начисто сразу после усвоения). А уж когда сто первая комната крутила «Рио Риту», – зажигательный «пассодобль» (кажется, так был обозначен на пластинке этот быстрый фокстрот), то наше общежитие было в опасной близости к разрушению от танцев на всех верандах.
Танцы, однако, мы «крутили» только по вечерам выходных. Для себя, «для души», у меня образовался приличный фонд классической музыки и арий из опер выдающихся певцов – Шаляпина, Гмыри, Козловского, Лемешева и других. Обычная картинка вечера: народ чертит, решает задачи, а в комнате звучит музыка. Однажды к нам ворвался некий взъерошенный субъект и заявил с порога:
– Ваша музыка не дает мне заниматься! Я сижу в рабочей комнате на пятом этаже и ничего не могу делать из-за этой музыки!!!
– Ты такой нервный? – вступил с ним в контакт Серега Бережницкий. – Очень тебе будет полезно по утрам делать зарядку и обливаться холодной водой. Посмотри: человек спокойно спит!
Рядом с нашим, довольно громко звучащим, акустическим агрегатом, установленным на стул, вполне безмятежно похрапывал один из наших младших товарищей. Возмущенный студент ошалело осмотрел спящего, и тихо удалился.
Однако не все кончалось так благополучно. Юра Могирев, построивший магнитофон, имел много записей запрещенного Петра Лещенко, записанных с подпольных трофейных пластинок. Эти записи мы могли слушать только в его комнате: усилитель магнитофона был слабенький. Юра мечтал о большой аудитории. Тогда мы вдвоем тайно пробросили по карнизу провод из его комнаты в нашу. Система магнитофон – усилитель – динамик заработала. Несколько вечеров мы в половину мощи услаждали слух танцоров на верандах (много проникновенных песен Петра Лещенко звучат в ритме танго). Кончилось тем, что в нашу комнату ворвалась целая идеологическая комиссия студсовета общежития, и обвинила меня в озвучивании пластинок запрещенного певца, белого офицера и изменника Родины Лещенко. Я прикинулся «шлангом».
– Какой Лещенко? Какие пластинки? Это же приемник поймал трансляцию концерта Козина!
Комиссия огляделась. Мерцало десятком радиоламп некое радиоустройство, провода от которого шли к динамику, с болью вещавшему:
…Татьяна, помнишь дни золотые…
На тумбочке, опираясь на стопку книг, стоял совершенно неподвижный проигрыватель, на диске которого стояла недавно изданная пластинка Ивана Козловского.
– Да нет, это же песня Лещенка, – запротестовал музыкально продвинутый член комиссии. Другие покосились на него подозрительно: откуда бы такая осведомленность? «Продвинутый» спохватился, изобразил внимательное прослушивание и добавил, придавая голосу спасительную неуверенность:
– … кажется.
Возможно, я бы «прорвался» таким примитивным способом, но подвела запись на пленке. «Татьяна» кончилась и Лещенко жизнерадостно, в полный голос, заявил:
– Эх, Дуня! Люблю твои блины!
– Это же Лещенко!!! – завопила теперь уже вся комиссия, не скрываясь друг от друга.
В общем, всякие трансляции радиоконцертов из неопределенных источников мне запретили. На входе в общежитие была нарисована цветными мелками большая стенгазета, собственно – одна картина. Шестеро жильцов комнаты 101 сидели за столом с открытыми ртами. Во главе стола за огромным самоваром сидела кустодиевских форм Дуня и бросала в наши голодные глотки блины… Картина была талантливая, жаль, что не подумал ее отснять и сохранить. Популярность 101 комнаты возросла необычайно: и сейчас антиреклама добивается цели быстрее, чем обычная реклама. Однако нам пришлось значительно умерить громкость нашего «радиолыка-2»: пришла еще делегация близлежащих домов с жалобами на музыку, которая их достала. Делегацию мы рассмешили, заверив, что от классической музыки их коровы и козы увеличивают надои, а также обещав принимать и исполнять их заявки на концерты. Расстались мы друзьями, но выводы мы сделали.
Еще дважды наш «радиолык -2» гремел на полную мощь и был в центре внимания изумленной общественности. Весной 1954 года в Киеве можно было наблюдать полное солнечное затмение. Все готовились заранее: коптили стекла, готовили бинокли, телескопы. Сварщики, естественно, постарались добыть сварочные стекла, которые тогда назывались ТИС – «темное изюмское стекло». Примерно в полдень перед общежитием собралась огромная толпа, наблюдавшая за «потуханием» солнца. Когда наступила полная темнота, залаяли собаки, а из окна нашей 101-й раздался жуткий шаляпинский хохот Мефистофеля из «Фауста»: это я врубил на полную мощь соответствующий фрагмент арии. Эффект был сильный: народ от страха вздрогнул, набожные начали креститься.
И последний раз радиолык взбрыкнул, когда мы праздновали защиту дипломного проекта. Вечером окно 101-й закрыл плакат из трех чертежных листов: «Наше дело правое – мы защитились!». Плакат был изнутри подсвечен киловаттной лампой из «козоскопа» и ярко выделялся на фасаде. Из окна гремели выстрелы: если малокалиберный патрон подогреть спичкой, то он бабахает не хуже охотничьего ружья 12 калибра. Десятка два патронов расположены на подоконнике, спички мог взять каждый желающий. И все эти прибамбасы венчает мощный марш «Прощание славянки», слышимый на пол Киева. Начальство безмолвствовало: маленькие дети стали инженерами…
При отъезде в отпуск и на работу я оставил всю технику и большинство пластинок ребятам из 101-й. Не знаю, как сложилась судьба моего музыкального «монстра» – его было жаль, но оглядываться на прошлое стало некогда.
Уроки техники безопасности.
Четвертый и первый семестр пятого курса мы достаточно поверхностно осваиваем инженерные дисциплины, с которыми вскоре столкнемся очень плотно. Настолько плотно, что приходится учиться заново и уже по настоящему. Речь идет об организации производства и управления и о технике безопасности.
По организации производства мы рассматриваем внешне очень незамысловатые схемы, из которых наглядно видно, что начальству нечего делать. Вот схема: директор – главный инженер – начальники цехов. У директора и главного есть разные отделы, которые готовят им решения. Что стоит подписать готовое решение? Зачем тогда нужен директор?
Гораздо позже мне в руки попалась книжечка – отчет делегации британских тред-юнионов (профсоюзов), изучавших организацию производства в США. Она меня потрясла своим тонким
анализом отношений между начальником и подчиненными, возведенными в ранг науки. У нас на эти грабли наступает каждый, причем его жизненный путь напрямую зависит от того, какие уроки он сможет извлечь из своих ошибок в этой очень непростой науке, которую мы постигаем наощупь, втемную – «методом научного тыка», он же – «ползучий эмпиризм».

Конечно, эти отношения показаны у нас в художественной литературе, на которой мы воспитаны. «Битва в пути», «Сталь и шлак», «Далеко от Москвы» и тысячи других книг повествуют о борьбе передовиков-новаторов и косного руководства. Обычно передовики всегда оказываются победителями в этой борьбе, конечно, – при помощи мудрых парторгов. А как, в самом деле, по науке, должны решаться вопросы нормальной организации нормального производства? Какими идеями и содержанием должны наполняться схемы производственных отношений? Наверное – и на эту тему было написано бесчисленное количество диссертаций, начинающихся словами: «Роль партийной организации в …». Увы, эти диссертации приносили ощутимую пользу только авторам, двигая их вверх по служебной лестнице.
Технику безопасности нам читал рыжий «живчик», весьма озабоченный своим успехом у наших девушек. Он непрерывно шутил, поглядывая на них и красуясь.
– Рабочий влезает на кран. Там – оголенный провод под напряжением. Касается. Поражение – шок. Рабочий падает с высоты. Вы, конечно, думаете, что он погиб. У него – контршок. Рабочий – оживает, ему хорошо, ха-ха!
В таком ключе у нас проходят все лекции по технике безопасности. Молодой инженер на производстве сталкивается немедленно с массой вопросов, на которые у него нет ответов. Но есть еще много проблем неосознанных, – он даже не подозревает, что такие проблемы могут быть. Кто и как несет ответственность за соблюдение техники безопасности? Промсанитарии? Исправности и безопасности инструмента, оборудования, одежды и обуви? Когда и кто проводит инструктажи по ТБ? Как и когда оформляются несчастные случаи на производстве? Что такое несчастный случай? Что делать, если случился смертельный случай, одиночный или групповой? Что надо делать руководителю, чтобы обезопасить рабочих и себя при ЧП? Когда происходит это самое ЧП, все вопросы и вопросики, особенно – неизвестные ранее, вырастают в гигантские химеры, совладать с которыми бывает очень трудно, иногда – невозможно…
Современный анекдот по теме. Преподаватель: «У вас упал с высоты и разбился рабочий. Ваши первые действия?». Слушатели выдают десятки решений: вызвать скорую, вызвать милицию, позвонить жене и т.п. Преподаватель: «Правильное решение – надеть на погибшего страховочный монтажный пояс!»
Перед самой защитой диплома нас потрясла наглядная иллюстрация по технике безопасности. После небольшого весеннего дождика мы с ребятами подходили к общежитию. Внезапно, метров за 100 впереди, полыхнуло, раздался низкий гул мощной дуги, рядом с нами закачались столбы, над головами задергались и заискрили провода высоковольтной ЛЭП, проходящей прямо над тротуаром. Впереди послышался отчаянный женский крик. Я рванулся вперед, к входу в общежитие, где был телефон и вызвал скорую, затем побежал к месту происшествия. Картина открылась впечатляющая. Провода одного пролета высоковольтной линии соединились, получилось короткое замыкание. Возникла мощная дуга, провода перегорели и упали вниз. Один обрывок завис на дереве, его конец воткнулся в землю. Там ревела дуга, выбрасывая метра на два вверх фонтан расплавленного песка. Второй провод змеился на булыжнике дороги и на голых ногах лежащей вниз лицом женщины. По всей длине провода периодически зажигалась дуга – на мокрых булыжниках и на ногах женщины. Подойти к ней, чтобы скинуть с ног провод, было нельзя: стоило чуть приблизиться и смельчака начинало корежить шаговое напряжение, растекающееся по поверхности земли. Подъехала скорая, врачи с чувством бессилия смотрели на горящие ноги женщины. Приехала также чья-то «Техпомощь», и тоже ничего не могла сделать. Наконец нашелся смелый и грамотный человек. Он был в резиновых сапогах; один конец длинной доски обмотал сухой фуфайкой. Приблизившись очень мелкими шагами на длину доски к женщине, другим концом доски он скинул провод с ног женщины и отодвинул его подальше. Экипаж скорой смог подойти к женщине, поднять ее и унести в машину. Она еще стонала, то есть была жива! Высоковольтная дуга на двух проводах продолжала исправно гореть: линия оставалась под напряжением еще полчаса...
Я вспомнил свою экскурсию с дядей Антоном на высоковольтную подстанцию в Ивановской области. Навсегда запомнились его объяснения: при обрыве хотя бы одной фазы высоковольтной линии, автоматика должна отключить ее, прежде чем оборванный провод коснется земли. Еще раньше автоматы обязаны были отключить линию при коротком замыкании. По чьему недомыслию или халатности этого не произошло в Киеве? А кто проложил высоковольтную ЛЭП прямо над тротуаром обыкновенной городской улицы? Эта авария произошла оттого, что из строящегося многоэтажного дома, оказавшегося намного выше ЛЭП, какой-то недоумок сбросил на провода тяжелую доску… Если несчастная женщина и выжила, то ноги ей наверняка ампутировали…
У нас, сварщиков, да собственно, – у всех инженеров, работа неразрывно связана с электричеством. Я считал, что неплохо знаю его, и могу решать любые задачи. Но как мог «препод» Уласик утаить от нас в институте, что существует свод незыблемых правил и законов по этому самому электричеству, точнее по его безопасному применению? Это Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации и техники безопасности (ПТЭ и ПТБ). Каждый пунктик этих четких и ясных правил оплачен жизнями и увечьями многих людей. Инженер, даже не подозревающий о существовании этих Правил, подобен попу, не ведающему, что есть повседневная молитва «Отче наш».
Пояснения с извинениями. Рассказы о технике безопасности и всяких страшных вещах, к сожалению, еще будут в следующих главах… Нам надо вернуться в Киев 1953 года.
Ленинград – первое свидание.
Осенью 1953 года начался последний год учебы в институте. После одного семестра учебы мы должны были сдать экзамены и отправиться на преддипломную практику. После практики – месяца два отводится на дипломный проект и его защиту, затем – распределение, выход «на большую дорогу», или – в «большую жизнь». Кому как повезет…
Не помню – надоела ли к тому времени учеба. Скорее всего – нет, потому что настоящей работы было так много, что некогда было об этом задумываться. Запомнился курсовой проект по сварочным цехам. В моем задании – выполнить проект цеха по изготовлению сварных 200-литровых бочек, простых и круглых. Сначала выбираешь технологию – из чего и как эту бочку делать, затем начинаешь проектировать для нее цех. Нельзя цех или завод проектировать «вообще»: даже для производства бочек надо сначала иметь конструкцию и технологию изготовления. (Кстати, Тольяттинский автозавод начали строить, приняв сначала конкретную марку автомобиля «ФИАТ» и технологию его производства). Моя бочка, конечно, была чуть проще автомобиля, но программа цеха – один миллион бочек в год! В цех подавались листы металла (какие нужны?), из цеха – каждые 15-20 секунд должна выскакивать готовая бочка, – испытанная, покрашенная, и с нужными лейблами. Любая технологическая операция с большей длительностью ставала тормозом, надо было ставить параллельную линию, или – совершенствовать технологию. Для каждой технологической операции надо было выделить место в потоке, подобрать готовое или эскизно изобрести специальное оборудование, сосчитать необходимые площади, количество рабочих. От их количества зависели площади раздевалок, туалетов и т. д. А куда девать и как исправлять обнаруженный при испытании брак? И еще куча вопросов, требующих разрешения и отражения в проекте.
Общий проект, таким образом, разбивался на ряд мелких, для решения которых требовалось знать массу вещей, – хотя бы для того, чтобы пользоваться многочисленными справочниками. Работа над таким комплексным проектом резко «поднимает» студента на более высокий уровень, даже если многое и упрощается. Практически мы составляли подробное техническое задание для проектирования: полные рабочие проекты таких производств – дело больших коллективов.
После зимней сессии, в начале 1954 года четыре человека из нашей группы убывают в Ленинград на преддипломную практику – на завод «Электрик», который изготовил «красивый» автомат, соблазнивший меня поступить на сварочный факультет. Теперь мне выдана тема дипломного проекта: «Контактная машина для сварки сеток тяжелой арматуры». Эту машину тогда разработало КБ завода, а завод уже начал изготовление, испытания и доводку экспериментального образца. Несколько таких машин завод «Электрик» должен изготовить для Куйбышевгидростроя и других строящихся гидроэлектростанций: сварные сетки требовались для установки в тело плотины.
Слово «сетка» в названии машины как-то маскирует слово «тяжелая»: сетка есть сетка. Моя «сеточка» состояла из 15-ти продольных стержней, каждый диаметром по100 мм, к которым поперек приваривались «стерженьки» диаметром «всего» 60 мм. Масса только одного погонного метра «сеточки» составляла около двух тонн, ее ширина – более 6 метров, длина могла быть любая, если стыковать продольные стержни и иметь оборудование для перемещения такой «сеточки». Из 15 сварных пересечений одновременно сваривались только три: даже для этого требовалась мощность, которую потребляет небольшой город. Машина должна была работать в автоматическом режиме; схема и приборы управления машиной еле размещались в двух больших шкафах. Машина была необычная, интересная и, главное, – реальная, поэтому я с удовольствием согласился взять эту тему для дипломного проекта. Практика в Ленинграде тогда получалась автоматически: только там делали такую машину.
Ленинград встретил нас низким серым небом и сизым смогом, заполнившим улицы от Витебского вокзала до Петроградской стороны, где был наш завод и арендованная институтом комната в студенческом общежитии. Никаких красот города, отраженных в глянцевых открытках «вербовщика» Г. Л. Петрова, мы и не мечтали увидеть сквозь заиндевелые окна трамвая, да еще при ранних зимних сумерках. Поселилась наша группа из КПИ в одной большой комнате общежития ЛЭТИИЖТа на Малой Посадской, недалеко от мечети. Сварщики – Коля Леин, Леня Хлавнович, Эдик Сергеенков и я. Среди нескольких ребят из других факультетов выделялись иностранцы: гибкий красавчик кореец Ли и сгорбленный от какой-то болезни, довольно пожилой по нашим понятиям, болгарин Живко.
Утром, разузнав, что наш завод недалеко, мы отправились к нему пешком по Кировскому проспекту. Никаких ожидаемых эмоций при этом мы не испытали: серые холодные дома, висящий над всем городом сизый смог. Остатки нерасчищенного снега тоже были серыми, ни белого, ни черного цвета мы нигде не увидели, архитектура домов – по нашим дилетантским понятиям – вполне обычная.
Формальности и ознакомление с заводом заняли целый день и возвращались мы «на базу» уже в сумерках. Обедали мы в заводской столовой, для ужина купили всяких плавленных сырков, хлеба, сахара и т. п. Кипятильники, кружки у нас, как опытных командировочных, всегда были с собой. Киевляне Хлавнович и Сергеенков, как буржуины, развернули домашние припасы, не доеденные в поезде. Пролетарии – мы с Колей Леиным, – без всякого зазрения совести помогли товарищам прикончить «буржуазные пережитки». Появился Живко, навьюченный кульками со съестным. Мы не стали нарушать болгарский суверенитет, не столько из-за дипломатического пиетета, сколько из-за собственной сытости. Внезапно Живко завопил:
– Нет, вы посмотрите, что продают!!!
Мы кинулись к нему. В руках он держал наполовину открытый усеченный конус сырка «Зеленый». Под ярко раскрашенной фольгой было нечто зеленоватое, покрытое плесенью и издающее запах, мягко говоря, – разительно отличающийся от запаха пищевых продуктов. Мы дружно и возмущенно загалдели, посоветовав Живко бросить продукт в лицо директору магазина, высказать ему все, что о нем думает мировое студенчество, и обязательно забрать назад свои кровные. Мы кипели возмущением и говорили все вместе. Чувствуя международную поддержку, Живко еще более распалялся и строил планы отмщения.
В комнату постучали и впорхнули две девушки, аборигены общежития, чтобы забрать нашего Ли на каток: оказывается он уже успел с ними познакомиться и договориться о встрече. Увидев нас сгрудившихся возле стола с раскрытым сырком одна из девушек, осмотрев пустой стол, спросила:
– Вы тоже любите их? А с чем же вы будете есть эту прелесть? Подождите, у нас варятся макароны!
Мы раскрыли рты. Коля Леин пробурчал что-то о залежалых продуктах в красивых упаковках, которыми враги, засевшие в торговле, травят бедных студентов.
– Да вы что! Мы этот сырок обожаем! Его не всегда можно найти!
Через несколько минут у нас на столе стояла тарелка с дымящимися макаронами. Наташа щедро посыпала их натертым «дефектным продуктом» и широким жестом пригласила общество к пиршеству. С целью сохранения наших драгоценных жизней, мы только нюхали «совмещенный» продукт и недоверчиво поглядывали на повариху. Запах тухлых яиц несколько разбавился ароматом горячих макарон, но нам этого было явно мало.
– Когда я работал египетским фараоном, – начал Леня Хлавнович свои воспоминания, – то содержал специальных дегустаторов, которые пробовали пищу, перед употреблением Моим Величеством…
Наташа навернула на вилку макароны с сыром, отправила в рот, медленно разжевала с выражением блаженства на лице и раболепно пригласила:
– О, мои фараоны, подобные Солнцу! Можете потреблять, отбросив присущий Вашим Величествам страх!
С опаской начали пробовать. Живко наблюдал за дегустацией недоверчиво, затем сам взял вилку. Закрыв нос, пожевал. Затем, уже спокойно, доел макароны и подытожил:
– Есть, конечно, можно, но одни макароны вкуснее!
Нам показалось, что он лукавил. Думаю, что, потребляя национальные приправы солнечной Болгарии, он с гордостью расскажет о приправах с небывалым вкусом, к которым он приобщился в Ленинграде... Во всяком случае, дикая расправа с директором гастронома была отложена на неопределенный срок.
Гастрономическое отступление. К тому времени, когда наш сын решил ознакомить своих предков с изысканным вкусом «голубого» сыра, пронизанного плесенью, я уже был подкован информацией и воспоминаниями о сырах: «зеленом» питерском и сыре Марк Твена, который он перевозил в железнодорожном вагоне. Мы с женой «наступили себе на нос и глаза», вкусили… и – нам понравилось.
Второй наш иностранец – кореец Ли был личностью яркой чрезвычайно. На свой завод он ходил через день – два, и то – только после обеда: спал он до 12 часов дня. Очевидно, на заводе начались какие-то неприятности по этому поводу. Тогда Ли предоставил заводу медицинскую справку, в которой печатями и подписями удостоверялось, что по состоянию здоровья он не может просыпаться раньше полудня. Зато вечером, когда мы усталые появлялись в общежитии, у сына корейского народа начинался подлинный рабочий день. Ли готовил коньки, на гибкое тело надевал белый вязаный свитер, на черные волосы – красную повязку. Его уже ожидали девушки, с ними он отправлялся на ближайший каток, которых в то время было великое множество, почти в каждом пятом дворе. В те времена сведения о фигурном катании на коньках мы имели только из американского фильма «Серенада солнечной долины». Наш Ли был настоящим мастером и по всяким фигурам на голову был выше героини «Серенады». Популярность Ли на катке, особенно у девушек, была необычайной, он ею упивался. Все заботы практики на заводе (кажется, химическом) ему были глубоко «до лампочки».
Завод «Электрик» в то время – старинное предприятие, в старых кирпичных корпусах которого кое-как приспособились к требованиям времени: нужда в сварочном оборудовании, особенно в источниках тока и машинах контактной сварки, была огромная. По нарядам главка все оборудование, производимое заводом, было расписано на год вперед, и с весьма серьезными заказчиками шутить было нельзя. Сборка оборудования, неоправданно очень большой номенклатуры, – по сути, велась кустарно, несмотря на наличие отдельных передовых станков. Сборку агрегата, даже крупносерийного, от закладки до сдачи выполняла одна бригада на одном месте, конвейерные линии некуда и некогда было ставить: надо было «выполнять план любой ценой». Большинство деталей производилось на универсальных токарных и фрезерных станках. Получалось: трудоемко, неточно и требовало подгонки при сборке. Выпускаемое оборудование тоже отставало от мирового уровня, но никто и не подумывал о его улучшении: и такое «отрывали с руками». При таких условиях, кому нужна была головная боль по модернизации и перестройке производства, которые неизбежно в первый период снижали бы выход продукции?
Приведу такой пример. В лаборатории контактной сварки, моем основном рабочем месте, для наладки режимов стояли две машины для стыковой сварки одинаковой мощности по150 ква. Одна машина была своя, «электриковская», вторая – американская. Наша была с механизированным пневматическим зажатием деталей и кулачковым приводом суппорта от электродвигателя. Американская была с ручным приводом. Наша была в два раза больше, со всех сторон из нее торчали острые углы механизмов, болты, шланги, тяги пыхтящих пневмоцилиндров. На американской, полностью закрытой и меньшей в два раза, была одна рукоятка суппорта и две маленьких педальки гидравлического зажатия деталей. При нажатиии первой педали на зажимаемые детали падали плунжеры, два – три качка второй намертво зажимали стыкуемые детали. Ручной привод не требовал смены кулачка при изменении режима сварки: сварщик легко определял его по нагреву деталей и гибко регулировал. Дело не только в эстетике и габаритах: при работе производительность американской «ручной» машины была раза в полтора – два больше, чем у нашей «механизированной». Контраст был настолько разительный, что И. М. Радашкович, начальник лаборатории контактной сварки, распорядился завесить ковриком большую фирменную «лейблу» американки, – так ему надоели вопросы экскурсантов.
Оправдательное отступление. Хотя мне не нравился ряд машин завода «Электрик», должен отметить высокую надежность их источников тока для ручной сварки. Да, они были громоздкими, и не всегда красиво из них торчал крепеж, но они никогда не подводили в работе. Все познается в сравнении. В Тбилиси построили завод сварочного оборудования, и, чтобы сократить номенклатуру «Электрика», туда передали производство 500-амперных сварочных преобразователей, с отработанной конструкцией, технологией и даже оснасткой. Выпускаемые горячими кавказскими джигитами машины были как две капли воды похожи на электриковские, но стали такими же горячими, как их создатели: загорались через полчаса работы. Несмотря на большой дефицит источников тока, при распределении оборудования тбилисские преобразователи шли в качестве принудительной нагрузки. «Получишь то, что хочешь, только, если возьмешь и это», – говорили главным сварщикам предприятий. Интересно, что производят на этом заводе теперь, в 2004 году, джигиты свободной Грузии? Привет вам, саксаулы, я хотел сказать: аксакалы!
Впрочем, почти такая же картина получилась при передаче производства сварочных трансформаторов на некоторые российские заводы. Правда, это уже были другие типы трансформаторов, кроме того, в них медные обмотки поменяли на алюминиевые. Трансформаторы стали очень ненадежными и еще более громоздкими.
Моя машина занимала почти половину цеха: очень много места занимали чисто механические системы подачи металлических заготовок. Каждая из 15-ти точек сваривалась своим отдельным трансформатором мощностью 450 ква (одновременно включались три трансформатора). На каждом трансформаторе был свой механизм сжатия пересекающихся стержней толстенными медными электродами; сравнительно плоские трансформаторы можно было перемещать на раме машины, как того требовали размеры сетки. Машина была экспериментальная, конструкторы в процессе монтажа дорабатывали и совершенствовали ряд узлов, я вникал во все детали. Особенно меня интересовала система управления машиной с сотнями радиоламп, клапанов, реле и игнитронов, в которой не все ладилось.
Предварительное сжатие электродов проводилось сжатым воздухом, затем включалась гидравлическая система дожатия. Датчик, командующий переключением, должен был улавливать очень небольшой перепад давления воздуха. Датчик не хотел этого делать: он упрямо молчал. Когда повышали его чувствительность – он выдавал целую серию ложных сигналов, которые запускали в машине чуть ли не пляску Святого Витта. Тут я вспомнил о своем парашютном прошлом и предложил конструкторам сверхнадежный ПАС – 400, безотказно открывающий парашют при незначительном изменении атмосферного давления. На меня посмотрели недоверчиво, однако добыли документацию на прибор, а затем и применили его. Конечно, механическую тягу заменили электрическим сигналом, что очень просто.
Главная забота дипломника – набрать побольше бумаг, из которых потом можно было бы черпать сведения для дипломного проекта. В этом деле у нас была «полная ламбада». На заводе было БТИ – Бюро технической информации с милыми женщинами, которые выдали нам столько чертежей и описаний, что пришлось часть вернуть: не хватало грузоподъемности.
Мы все время помнили, что мы находимся в Ленинграде, и каждый свободный час пытались провести в городе. Петроградская сторона, по которой мы ходили на завод, особого впечатления не производила. Между некоторыми домами зияли пустоты, там еще сохранялись развалины разрушенных при блокаде домов. Наконец приходит выходной (о двух выходных подряд советский народ еще и мечтать не мог).
Мы идем на ближайшую трамвайную остановку (теперь там станция метро Горьковская), оглядываемся. Нам надо попасть на Невский проспект, именно там мы увидим и почувствуем душу города. Спрашиваем туземцев поприветливее, в какую сторону и каким трамваем доехать до Невского. Тетя показывает направление к мечети и называет номер трамвая. Чтобы подстраховаться, через некоторое время задаем такой же вопрос мужику. Он твердо указывает нам противоположное направление и тоже называет номер трамвая.
Отступление: размышление о трамваях и памяти. В те времена, ровно полвека назад, каждый трамвай имел «на лбу» и сзади свои цветные огни, по которым издали, даже в сумерках, можно было определить его номер. Трамваи ходили часто и строго по расписанию, хотя его и не было на остановках. Зато на пересечениях улиц стояли будки с дежурными, которые четко фиксировали время прохождения трамваев, троллейбусов и автобусов и как-то управляли процессом. Для большей достоверности хотелось бы привести номера трамваев. Увы, я забыл их; кажется, тройка и 31-й. Маршруты и номера менялись уже несколько раз и ничего не скажут современному читателю. Что касается современных номеров и маршрутов, я их вообще не знаю: последние четверть века по Питеру я передвигаюсь за рулем. Иногда приходится краснеть, когда безлошадные приезжие спрашивают, чем проехать куда-нибудь. Раньше выручало метро, там все станции были известны задолго до пуска. Теперь много станций и веток метро, на которых я не бывал никогда и уже вряд ли буду…
Мы растерялись: кому верить? В третий раз обратились к интеллигентной бабуле. Она вежливо поинтересовалась, какой номер Невского нам нужен. «Любой, мы просто хотим его увидеть и пройтись!», – возопили мы. «Тогда начинайте с начала, с Дворцовой площади», – посоветовала нам бабуля и указала направление.
Бродили мы по Ленинграду целый день. Обошли Дворцовую площадь, Зимний дворец, Исакиевский собор, посетили Медного всадника, прошлись по Невскому до Елисеевского магазина, возле Екатерины свернули на зодчего Росси. Ходили по каким-то улицам, куда-то ехали. Впечатления сильные, но разрозненные, как части картинки на разбросанных детских кубиках. Уже в сумерках вспомнили, что нам надо на Главпочтамт: там могли быть письма «до востребования», – такой адрес все назначили родным и близким. И вот только там мы увидели город с высоты птичьего полета и поняли, где мы ходили, где жили и работали. На стене Главпочтамта висела подсвеченная большая карта города с указанием большинства улиц. Наверное, как и все карты того времени, «дозволенные к открытому употреблению», она была с умышленными искажениями, но и такая она стала для нас путеводной звездой, маяком, позволявшим собрать рассыпанную мозаику в целую картину. Никаких других карт, или хотя бы схем движения городского транспорта, нигде не было: они появились несколько лет спустя.
Один день мы посвятили Эрмитажу. Прямо у входа меня потрясла скульптура Копфа(?) «Танцовщица» из белого мрамора. Кажется: теплое тело прекрасной танцовщицы просматривается сквозь прозрачную кисею накидки. Изобразить это в холодном камне – настоящее колдовство. Несколько часов хождения по необъятным залам Эрмитажа нас просто расплющили: мы поняли, что нельзя пытаться «объять необъятное», во всяком случае – за один день. Зато на выходе я несколько минут опять постоял у «Танцовщицы». Позже, через десяток лет, я увидел картинки Бидструпа: малыша водят по зоопарку, показывают львов, тигров, жирафов, уйму других редких экзотических зверей. Малыш ожил, только увидев обыкновенного воробья! Правда, мой воробей (воробьиха?) был мраморный и очень красивый.
Жилось нам в общежитии хорошо. По вечерам мы немного работали и много дурачились. Завсегдатаями нашей комнаты стали несколько девушек из общежития, веселых и певучих. Веселил всех Леня Хлавнович, неистощимо остроумный и находчивый во всяких подначках. В технике он изобретал невиданные паукообразные машины для подачи стержней и сварки моих и своих сеток; я спокойно разбивал его идеи, как дважды два доказывая ему их неработоспособность. Он величал меня «Угнетателем свободной технической мысли», «Прозаиком технической поэзии». Я величал его «техническим Икаром» в стадии расплавления склеенных крыльев, «сварочным батьком Хлавно». Эдик Сергеенков внимательно слушал наши перепалки, переводя внимательный взгляд с одного говорящего на другого. Через пару минут, когда разговор шел уже о другом, до него доходил смысл сказанного, и он разражался громким смехом. Тут уже от смеха падали все свидетели нашего диспута…
Незаметно подошел конец практики, и мы отбыли в Киев. От зимнего Ленинграда у меня осталось неопределенное впечатление: здесь хорошо работать, но Великий Город – холодный и не очень уютный для жизни. Потом уже я понял, что если бы первое знакомство состоялось летом, впечатления были бы совсем другие. Так были совершенно очарованы Ленинградом родственники, посетившие нас с женой во время белых ночей.
Лирическое отступление. Более полувека прошло с тех времен. Давно этот город стал нашим, родным, – зимой и летом, ясным днем и в непогоду. Здесь мы с женой были молодыми, здесь родился и вырос наш сын, и наши внуки. Сюда неизменно стремился и возвращался я после дальних и близких странствий. Здесь покоятся наши с женой матери, там есть место и для нас… Здесь мы построили свой садовый домик среди сосен, в котором я сейчас пишу эти строки. Сказочные восходы и закаты видны в наших окнах…
А наша Украина, Родина родителей и наша малая Родина, теперь находится за пограничным шлагбаумом. Там у нас только постаревшие друзья и родные могилы…
Финиш.
В Киеве меня ожидает очень напряженная работа: дипломный проект предстоит выполнить в очень короткий срок. Дипломный проект у нас в КПИ – серьезная работа. Одних чертежей и схем должно быть не менее десяти. Проект состоит из нескольких разделов: технического, экономического и других; по каждому разделу – свой консультант. Имеется и общий руководитель. Все ведущие добиваются совершенства проекта – «через посредство» увеличения труда ведомого. В принципе, наши преподаватели и так знают «кто есть ху», и могли бы поставить оценку, не глядя в этот проект, но защищать его надо перед государственной комиссией. А там сидят кадры дотошные и въедливые, и мы не должны ударить фейсом в грязь.
Еще мы сдаем некоторые госэкзамены, в том числе – по военной подготовке.
А в Киеве – весна! Гремит наш радиолык, народ по вечерам танцует на верандах. Велико искушение слегка упростить проект, заняться более приятными делами. Время выкраиваем, не снижая качества работы: только за счет увеличения производительности. Если бы первокурсники, несколькими неделями чахнувшие над первым листом, могли представить себе, сколько листов и расчетов они будут ворочать за это время на пятом курсе! Темп работы все усиливается: день защиты незыблем, как скала. И вот он наступает.
Последнее напутствие Деда: говорить не то, что знаешь, а то, что надо. В общем: «кратк. – с. т.» – краткость – сестра таланта. Чертежи развешиваются заранее, на выступление – не более 10 минут, время вопросов – не ограничено, но ответы должны быть краткими и по делу.
Ни малейшей «волнительности» перед защитой у меня не было: это было сражение на моем поле, на котором была пристреляна каждая кочка. Моя речь на защите состояла из заголовков-тезисов и длилась 7 минут. Ответы на вопросы любознательных членов комиссии – 15 минут, причем по длительности вопрос иногда превышал ответ. В этот же день защищались Коля Леин и Серега Бережницкий – оба более чем успешно. Мы – инженеры. Наша 101-я пустилась в загул, о чем я уже писал…
Защита – это еще цветочки, зависящие от нас самих, цветочки весьма предсказуемые. Приближались совершенно непредсказуемые ягодки – распределение. Современным выпускникам вузов, кроме военных, – слово ничего не говорящее. По действующим тогда законам каждый выпускник вуза должен отработать не менее трех лет на том месте, куда тебя пошлет страна. А у страны было сто-о-лько мест, куда можно послать…
Половину ребят в наших двух группах курса составляли киевляне. Для них остаться в родных пенатах – голубая мечта, для некоторых – даже вопрос жизни и смерти. Ох, прав был Павлов, который говорил о мечтах некоторых устроиться на Куреневке в артель «Свисток сентября»! По просочившимся сведениям несколько мест в Киеве были, поэтому все киевляне считались конкурентами, и каждый ревниво оценивал шансы противников. Одно место было на кафедре сварки в аспирантуре. На 100% это было место Лазаря Адамского: он там уже был своим в течение последних двух-трех лет, его будущая диссертация уже наполовину, по слухам, была сделана.
Перед комнатой, где должна была заседать комиссия по распределению, заранее толпились обе группы. По настоящему решалась судьба человека, и каждый нервничал соответственно своему характеру: непрерывно курил, был угнетен или нервно хихикал над анекдотами, которые травили «закаленные» по теме «распределение». Леня Хлавнович на этот случай сочинил даже песню, которую распевали на мотив одной из песен знаменитого Рашида Бейбутова:
Наконец начали подходить члены комиссии. Это были, кроме руководства института, неизвестные нам представители министерств и главков, нуждавшихся в инженерах-сварщиках.
Отступление – взгляд из будущего. Мне потом приходилось много раз участвовать в аналогичных комиссиях по распределению новобранцев. Каждый член комиссии хотел выбрать для своей фирмы самых лучших. И если в институте у комиссии были все данные о выпускниках, то в нашем случае быстрый выбор надо было сделать из многих на основании скупых анкетных данных и мгновенной оценки человека по его речи и движениям. Ежегодно у нас «сортировалось» несколько сотен человек. Постепенно у меня выработался некий алгоритм выбора, о котором я, возможно, еще расскажу. Крупно ошибся в человеке я несколько раз.
Комиссия некоторое время заседала без нас, очевидно, определялись квоты и полномочия. Вызывать по одному начали по алфавиту. Тут всех удивил Лазарь Адамский: он на распределение явился под руку с Броней Школьниковой. «Мы решили пожениться», – ответил он скромно на наши недоуменные взгляды. Все прекрасно знали, что его невеста, с которой он дружил еще со школы, оканчивала то ли мед, то ли пединститут. И вдруг – Броня, довольно серенькая девушка, в особых симпатиях к которой он раньше замечен не был. Дальше привожу восстановленные по разным источникам события и разговоры.
Лазарь был настолько уверен, что его оставят в институте в аспирантуре, что решил спасти и киевлянку Броню от всяких дальних поездок по распределению. Броня, в этом случае, забрала бы еще одно место в Киеве. Если бы ей дали так называемый «свободный диплом», это было бы вообще пределом мечтаний: очень нужно интеллигентной девушке заниматься железяками в дымных цехах. Просчитав эти варианты, они явились на комиссию вдвоем, как жених и невеста. Кто бы потом спрашивал у них брачное свидетельство?
– Мы решили пожениться, – заявил Лазарь с порога на комиссии, – поэтому просим дать нам направление в один город. Комиссия уткнулась носами в бумаги и начала ими шуршать.
– Есть два места в Орск на строительство газопровода, – озвучил председатель комиссии результат поисков. У «жениха и невесты» широко открылись глаза.
– Как, у вас больше ничего нет??? – Лазарь взглядом обратился к представителям института в комиссии. Те скромно потупили глаза в бумаги.
– Два места у нас есть только в Орск.
Лазарь понял, в какую ловушку он попал, и решил спасаться самостоятельно.
– Ну, а если бы мы не женились, то что бы вы предложили мне одному?
Доподлинно мне неизвестно, что двигало председателем комиссии. Возможно, он просто закусил удила, настолько явной была попытка Адамского повесить комиссии лапшу на уши. Возможно, схватка «по Лазарю» была еще раньше, когда кафедра сварки озвучила желание иметь киевлянина с жилплощадью, отличника и активиста Адамского в своих рядах.
– Орск.
Ответ для Лазаря, я думаю, прозвучал как выстрел в упор. Он «потерял лицо», и начал уже говорить заискивающим голосом:
– Может быть, у вас есть место в Киеве? Здесь у меня есть жилье, и я не обременил бы свое предприятие требованиями…
Что-то похожее лепетала безмолвная до сего времени Броня Школьникова…
– Орск, строительство номер …, – забил окончательный гвоздь в гробницу «помолвленных» непреклонный председатель комиссии.
Адамский и Школьникова выскочили из комнаты комиссии порознь, бледные, и быстро ушли. На вопрошающие взгляды Лазарь отрешенно произнес: «Орск». Все аж присели: если Адамского послали в Орск, то для остальных песенка о Магадане ставала не юмором, а самой насущной реальностью.
На комиссию входили по персональному вызову. Теперь очередность была не по алфавиту, а по некоему, неведомому нам, алгоритму. Выходили оттуда с разными выражениями лиц: озабоченными, со слезами, иногда – со сдержанной радостью. Наши две группы сварщиков, спаянных пятью годами совместной учебы, разбрасывали по всему необъятному СССР.
Назвали мою фамилию. Вошел, представился без титулов: «Мельниченко». Первый вопрос председателя поставил меня в тупик и формой и содержанием:
– Николай Трофимович, к какой работе вы имеете большую склонность, – к научной или производственной?
Этого я не знал. Подумал немного и ответил, размышляя:
– Наукой заниматься, наверное, еще рано… Значит – к производственной…
– Если Вы хотите заниматься наукой, то мы Вам предлагаем Институт Электросварки имени Патона, если производством – завод «Ленинская Кузница».
– Знаете, я бы вообще не хотел оставаться в Киеве…
Если бы я всю-всю предыдущую жизнь мечтал днем и ночью – жить и работать только в Киеве, эту фразу стоило бы произнести, чтобы увидеть реакцию комиссии. Все остолбенели в разных положениях, и молча начали рассматривать меня, как явившегося наяву инопланетянина с тремя разноцветными головами… Председатель опомнился первым:
– А куда бы вы хотели?
– В Ленинград, Горький, – нагло распоясался я. В действительности я хотел в Горький, на Сормовский завод, но почему-то произнес первым словом «Ленинград».
– Ну, в Ленинграде у нас места нет, а в Горький – пожалуйста. А то, может быть, поедете в Николаев на судостроительный завод?
– Да нет, в Николаев не хочется, – продолжилось мое «борзение». Я вспомнил про себя, что там на практике были наши ребята, и впечатления у них остались неважные.
– Ну, почему не хотите в Николаев? Там тоже судостроительный завод…
– Да нет, не хотелось бы…
– Ладно: Горький, так Горький…, – председатель взялся за авторучку. Я уже представил себе встречу со старыми знакомыми в Сормове.
– А у нас еще есть одно место в Ленинграде, – неожиданно «возник» один из членов комиссии. В душе я чертыхнулся. Отыгрывать «в обратный зад» помешала совесть: и так со мной долго возились. Да, собственно, и большой разницы между Горьким и Ленинградом я не видел. Ленинград, так Ленинград…
Путевку я получил на Балтийский судостроительный завод. Должность – мастер. Завод обязался предоставить место в общежитии. Такую же путевку получил Юра Попов. Перед самым отъездом путевки нам обоим поменяли. Окончательно: Ленинград, Всесоюзный проектно-технологический институт Министерства судостроительной промышленности, инженер механосборочного отдела, оклад – 880 рублей, предоставляется общежитие. Никаких эмоций эта замена у меня не вызвала: оба кота были в плотных мешках.
Значительная часть киевлян осела в Киеве, преимущественно – в Институте Электросварки. Многие туда перебрались после некоторых трудовых усилий на периферии (сейчас говорят – в регионах). Во всяком случае, когда я приехал в ИЭС спустя лет 10, то мне казалось, что я опять оказался в КПИ: я ведь знал людей факультета на пару курсов ниже и выше своего. В Киев возвратились и «орские изгнанники». Год они, правда, провели в Орске, обвиняя друг друга в постигшей их ссылке, затем благополучно перебрались в Киев. Кажется, позже они уехали в Израиль или в США. Коля Леин получил назначение в «ящик» в Электростали, Серега Бережницкий – в «ящик» Саратова или Куйбышева (сейчас – Самара?). Из всех наших девушек мне известно только о судьбе Наташи Деркачевой (Яворской): она всю трудовую жизнь проработала на Киевском авиастроительном заводе Антонова в высоких сварочных должностях – увлеченно и с полной отдачей. Сам Юра – доктор тех. наук в ИЭС. Поля Трахт (Мисонжник) получила назначение в Винницу на номерной завод, но там о ней никто ничего не знал, – очевидно она туда так и не попала.
Цезарий Шабан за год до нашего распределения уехал в Кенигсберг – Калининград. Недавно (2004 г) он в письме привел мне скорбный список наших ребят, ушедших из жизни…
Последующие даты.
По интенсивности и насыщенности жизни студенческие годы нельзя сравнить ни с чем. Друзья, ставшие таковыми в эти благословенные годы, остаются друзьями на всю оставшуюся жизнь…
Основная масса нашего выпуска 1954 года спустя несколько лет сосредоточилась в Киеве. Даже те, которые получили путевки в Орск. Это обстоятельство помогало инициативным ребятам собирать юбилейные сборы выпускников.
Первая наша встреча, посвященная 10-летию, судя по надписи на фото, произошла несколько позже – 2 мая 1965 года. Пьянка состоялась в крутом ресторане на Крещатике. Разглядываю фото. Не все смогли или захотели приехать, но все еще живы. В центре стоит наш дорогой «дед» – Иван Петрович Трочун, он тогда уже себя чувствовал неважно, но очень радуется нашей встрече. Рядом с ним «мама» факультета – Нина Ивановна Ткаченко. Слева от нее стоит Юра Попов. Его шуточки над Мауэром все такие же, какие были в военном лагере. Сохранился человек, однако! Скоро он трагически погибнет в Латвии: туда к отцу он уехал из Ленинграда… На левом фланге беседуют Поля и Наташа – две звезды нашей группы. Рядом с Полей – ее верный муж Озик, который всех нас знает: он, музыкант, после сошедшего с дистанции Кандина «тянул» на собственных нервах буйный хор нашего факультета. Во втором ряду (слева направо) стоят Лена Скорик (Маслова), Боря Вайнштейн, Толя Венгрин, Юра Яворский, Мауэр, Колиснык, Кандин, Беба Обуховская – мучительница Олифера, Клара Чуприк и Лазарь Адамский с женой (настоящей, а не для распределения). Он уже сварил все газопроводы в Орске и вернулся в Киев… На заднем плане просматриваются Хоменко, Моргун, Вахнин, Маслов. Воспетый Хлавновичем СэрГи(ги)енков, к сожалению из-за Кандина виден только в половину лица. Зато дальше прекрасно видны Миша Шовкопляс и очкарик Жора Олифер. Фамилию девушки, стоящей справа от меня, – запамятовал. Я пугаю мирных инженеров военно-морским облачением, но присутствие миловидной супруги несколько разряжает обстановку… Ночуем мы у Яворских. Праздник в более узком составе в их квартире продолжается с еще большей энергией...
Мы молоды и полны сил, у нас если не все, то еще многое впереди…
Следующую встречу – 20-летие нашего выпуска – киевляне организовали блестяще на майские праздники 1974 года. Вместе с механиками арендовали на три дня целый пионерлагерь в Ворзеле под Киевом. Механики – наши друзья: мы одного потока, все общие лекции у нас были вместе. Место – изумительное по красоте, мы никуда не торопились, все застолья – в общей столовой. Хоры, игры, прогулки вместе и группами – все как у юных пионеров… Вот выдержки из поэмы Маслова, посвященной этому сбору. Юрка – не Пушкин, но кое-что обрисовал после -надцатой.
Наш оргкомитет перед каждой встречей разрабатывает анкету. Затем выбираются лучшие ответы на каждый вопрос, возникает «докУмент». Покажу только одну, сохранившуюся у меня анкету с некоторыми, слегка сокращенными, ответами.
АНКЕТА
Отвечать честно и разборчиво!
1. А Ты кто?
Растерял я зубы, гриву, – сохранил (пока что) ФИО.
2. Как долго длились для Тебя эти 20 лет?
Как летаргический сон: все слышал, видел, но не высказывался.
3. Как Ты движешься по жизни?
Зигзагами – по горизонтали и вертикали…
4. Хватает ли у Тебя …….?
На что намекаете? Жена сказала – нет, знакомая – да.
5. Длина окружности по голой талии (через пупок) в мм до и после того.
Колеблется синхронно с зарплатой.
6. Что такое настроение?
То, что настраивается бутылкой…
7. Семья есть? Какая?
Семья то большая, да два мужика лишь – я и кот Тимофей.
8. Какого возраста внебрачные дети? Разыскиваешься?
На всякий случай ласков со всеми детьми.
9. Наличие волос, зубов в % от исходного.
С учетом выросших в носу и ушах?
10. Какие у тебя увлечения (здоровые и нездоровые)?
Мое хобби – повышенные соцобязательства!
11. Изменились ли у Тебя врожденные наклонности?
Рожденный ползать – летать не сможет, как сказал сварщик А. М. Пешков.
12. Какую из своих порочных наклонностей Ты больше всего любишь?
Самую непорочную: сон после обеда.
13. Какое давление и давит ли на психику?
Давит. И есть желающие еще надавить.
14. На что Ты ещё способен?
На бесплатные советы.
15. Как подхалтуриваешь? Есть ли постоянная работа?
Довольствуюсь халтурой на работе.
16. Любишь ли начальство? А оно Тебя?
Любви начальства незаслуженно лишен…
17. Какие у Тебя связи?
Только для души и по телефону, полезных – нет.
18. Куда деваются деньги?
Туда же, откуда берутся клопы.
19. Чем займешься, выйдя на пенсию?
Напишу мемуары «Навеки встык».
20. Что читаешь кроме детективов?
Календарь – перед зарплатой.
21. Где официально, кем и за что работаешь?
В ИЭС, научным сотрудником, за глупость.
22. Если есть в жизни главное, то что это?
Транспортная проблема: кто на ком будет ездить.
23. Предложи лозунги для сварочных братьев и сестер.
МНС! Грызи гранит науки так, чтобы образовалась уютная пещера для семьи!
Сварщик! Не ковыряй в носу электродом: повредишь обмазку!
Из ответов на анкету видно, что есть еще табак в пороховницах! Не зря перед стенгазетами нашего факультета вечно толпился народ…
На четвертьвековой юбилей в 1979 году я уже не смог поехать, и написал друзьям послание, «как бы» (очень модное сейчас словосочетание), – стихи. Название послания я бессовестно украл у Лени Хлавновича из материалов предыдущей встречи. По рассказам очевидцев – письмо имело успех. Поскольку там упоминается много событий и лиц, уже известных из ранее написанного, – привожу его целиком, несмотря на вопиющие погрешности рифм и размера: самоучка, однако…

НАВЕКИ ВСТЫК
Я дожил и до полувекового юбилея нашего выпуска. Предыдущий выпуск сварщиков, в котором учился ЦВ (Цезарий Шабан), – пытался собраться. У нас же – никаких сигналов не было: «наш голос глуше, глуше…». Много ребят уже ушло, а главное – нет у нас уже общей Родины, наша Украина стала самостийной державой, где не очень жалуют москалей, каковыми стали сейчас многие из нашего выпуска, в том числе – и я. С оказией, – внуком Лени Колосовского, отправил письмо и свою книгу на кафедру сварки КПИ и Яворским. Нет ответа…



